

Альбомная поэзия 1920-х годов
Альбомная поэзия 1920-х годов
(на материале альбомов
В. А. Сутугиной и Р.В. Руры)
……..
……..
Введение
Глава I
Альбом В. А. Сутугиной как факт литературного быта 1920-х годов
Глава II
Альбом Р. В. Руры как образец «тщеславного» альбома
Заключение
Примечания
Список литературы
Введение
Одной из линий развития культуры является «культура быта». Проблемами быта явления культуры занимались Ю. Н. Тынянов, В. В. Виноградов, в. М. Жирмунский, В. Э. Вацуро, Ю. М. Лотман. В статье «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века». Ю. М. Лотман поставил вопрос о поэтике поведения человека как одной из важнейших типологических характеристик культуры. Литературно- бытовой альбом – историко-культурное явление русской жизни XVIII-XX веков. Прямое назначение альбома – быть собранием весьма разнородных записей, принадлежащих или адресованных его владельцу.
На сегодняшний день нет ни одного монографического исследования, посвященного анализу альбомной лирики XX века. Это связано с тем, что таких альбомов немного. Как правило, они находятся в частных коллекциях или в закрытых архивах, недоступных широкому кругу читателей. Сами альбомные записи носят частный характер и не представляют интерес для широкой аудитории. Прежде всего, альбомы являются свидетельством культурной жизни эпохи, а уже потом – фактом литературы. Альбомы – своеобразные сборники. Существование и активное бытование подобного материала в начале XX века обуславливают необходимостью его изучения.
Альбом, по замечанию Ю. М. Лотмана, был важным фактом «массовой» культуры второй половины XVIII –первой половины XIX века. В это время связь альбома с альманахом и рукописной книгой очевидна. Впоследствии эта связь утрачивается. В XX веке рукописный альбом оказался вытеснен альбомом фотографическим.
Как правило, альбомная лирика ограничена в своих темах, очень часто она предполагает заданность в обращении к определенным событиям, владельцу. В альбомах происходит соприкосновение поэзии и быта, практически поэзия вырастает из быта, определяет, уточняет, эстетизирует его. В XIX веке альбом из факта низовой семейной культуры становится достоянием великосветской моды.
В XIX веке развитию альбомных жанров способствует появление женских библиотек. Традиция ведения домашних альбомов приходит в Россию из Германии через французскую культуру. В 1820 году в журнале «Благонамеренный» появилась статья П. Л. Яковлева, посвященная альбому как факту культуры. Она и называлась «Об альбомах» и носила хвалебный характер. В этой статье впервые была предпринята попытка осмыслить роль, которую играл альбом в русском обществе начала XIX века. Любопытными представляются следующие выводы: во-первых, альбомы ввели в употребление женщины; во-вторых, посредством альбомов в обществе осуществлялось приобщение к литературе, и вырабатывался вкус к чтению и письму.
В первой половине XIX века увлечение альбомами стало всеобщим. Появилась мода подписывать альбомы, что помогало восстановить историю владельца. В это время можно говорить о разных типах альбомов. Такое разнообразие домашней рукописной литературы предполагает возможность ее классификации. П. Л. Яковлев дает следующую классификацию альбомов начала XIX века, которая не утратила значения и в веке XX. Альбомы в зависимости от возраста, профессиональных и иных интересов владельцев разделяются на:
- Альбомы тщеславия;
- Альбомы спекуляторов;
- Альбомы артистов;
- Альбомы литераторов;
- Альбомы женщин;
- Альбомы девиц;
- Альбомы мужей;
- Альбомы молодых людей;
- Альбомы ученические.
Во второй половине XIX века появляются семейные альбомы (альбом семьи Аксаковых) и, как их вариант, альбомы «педагогические», содержащие полезные советы дочерям (альбом Даргомыжских).
Большую известность получили альбомы К. Я. Яниш, С. Д. Пономаревой, А. П. Елагиной, А. П. Керн, А. А. Олениной, П. А. Бартеневой, А. Д. Амабелек, Е. А. Сушковой, сестре М. А. и А. А. Протасовых, П. А. Вяземского, П. В. Толстой, Е. А. Карамзиной, М. П. Баратаева, В. И. Панаева.
В поэзии XIX – начала XX веков присутствовали попытки осмыслить значение альбома в рамках культурной традиции. Появляются альбомные стихотворения Е. А. Баратынского. В одном из них он говорит о необходимости девушкам иметь альбомы, чтобы не забыть имена своих поклонников («В альбом», 1821); в другом называет альбом кладезем воспоминаний, «заветные» строки альбома скрашивают дни старости , дни на чужбине, в разлуке с товарищами и возлюбленными («В альбом», 1819). В последнем альбомном стихотворении Баратынского альбом сравнивается с кладбищем (« В альбом», 1829), пестрые листы альбома являются памятниками прошлой жизни. Вступая в диалог с Баратынским, В. А. Жуковский вписывает в альбом К. П. Яниш следующую запись: «Поэт наш прав: альбом – кладбище…» (1831). Всем, пишущим в альбом, Жуковский дает характеристику добровольных мертвецов. Для самого поэта альбомная страница – желанное место погребения.
Стихотворение В. А. Жуковского <Альбом> (сер. 1820-х годов), написанное на отдельном листе без заглавия и даты, содержит экспозицию «для поэтической рефлексии о характере современного альбома»1. Начинается оно с восхваления альбома и его создателя: «Тот истинный мудрец, кто выдумал альбом!». И хотя в последних строках альбомного экспромта возникают иронические ноты, в них же появляется точное определение назначение альбома – сохранение памяти через альбомные записи.
В противоположность В. А. Жуковскому стихотворение А. С. Пушкина «И. В. Сленину» (1828) открывается прямым отрицанием альбомной традиции. «Я не люблю альбомов модных…». В этом альбомном послании Пушкин противопоставляет разные типы альбомов: модный альбом ослепителен и спесив, в то время как «альбомы красавицы уездной» безыскусен и прост. Пушкина привлекают дружеские альбомы, каким является альбом Сленина, в котором поэт делает записи, называя альбом «приятным домом» для пишущих.
Сравнение альбома с жизнью было привычным в XIX веке. Так, П. А. Вяземский и сопоставляет исписанный альбом с пестреющими записями:
Альбом, как жизнь, противоречий смесь,
Смесь доброго, худого, пустословья:
Здесь дружбы дань, тут светского условья,
Тут жар любви, там умничанья спесь.
Изящное в нем наряду с ничтожным,
Ум с глупостью, иль истинное с ложным —
Идей и чувств пестреет маскарад;
Все счетом, все в обрез и по наряду;
Частехонько ни складу нет, ни ладу,
Здесь рифм набор, а там пустой обряд…
В начале XX века эту мысль о роли альбома в обществе продолжают в своих стихотворениях В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, М. И. Цветаева. Так, Брюсов, как и Вяземский, задается вопросом: «Что наша жизнь?» («В альбом», 1910) — и отвечает: «Альбом». М. Цветаева делает альбом достоянием литературы и, следовательно, широкого круга читателей, называя свою первую поэтическую книгу «Вечерний альбом» (М., 1910). В первой альбомной надписи объясняется позиция лирической героини – быть стихом в альбоме («Надпись в альбом»). В ответной реплике Волошин обращается к автору с вопросом: «Почему «альбом», а не «тетрадь»?» («К Вам душа так радостно влекома!..», 1910). Смысл этого вопроса риторический, так как ответ пишущему известен: стихотворения, оформленные в виде альбома, помогают читателю, разгадать автора-героиню. Тот же Волошин в «Обликах» констатирует уход альбома как факта прошлой культуры: «Альбомы нынче стали редки…» (1912).
В начале XX века особой популярностью пользовались в поэтических кругах альбомы Н. Львовой, Р. Хин, М. А. Новицкой. На сегодняшний день большая часть сохранившихся альбомов содержится в собрании Пушкинского Дома.
Достаточно серьезные изменения альбомная культура испытала в 20 – 30-е годы XX века. Эти изменения связаны с множеством факторов: смена социального статуса, образовательный уровень владелицы альбома, ее художественный вкус, изменился и культурный быт страны.
В качестве материала для анализа альбомной поэзии XX века нами были выбраны два альбома, один из них принадлежал В. А. Сутугиной, другой – Р. В. Руре. Основаниями для такого выбора послужили следующие моменты: тексты этих альбомов опубликованы и прокомментированы; оба альбома создавались одновременно и в одной среде, что представляет определенный интерес. В соответствии с классификацией П. Л. Яковлева альбом В. А. Сутугиной относится к типу альбомов литераторов, в то время как альбом Р. В. Руры принадлежит к числу тщеславных альбомов, которые представляют собой коллекцию автографов знаменитых людей. И, наконец, оба эти альбома возникли в рамках кружковой литературы издательства «Всемирная литература».
Само издательство, созданное М. Горьким в 1918 году, просуществовало вплоть до 1924 года. Как свидетельствуют современники, «фактически вся творческая интеллигенция Петрограда участвовала в работе издательства».2 Это литературное объединение унаследовало исчезающий уклад дореволюционной литературной жизни, непременным атрибутом которого был салон. Подобное положение дел обусловило бытование кружковой литературы, зафиксировавшей сцены из жизни издательства (Е. И. Замятин «Краткая история «Всемирной литературы» от основания до сего дня», А. А. Блок «Сцена из исторической картины «Всемирная литература» и др.»).
Одновременно с такого рода текстами возникают записи, собранные в альбомах К. И. Чуковского, Д. С. Левина, В. А. Сутугиной, Р. В. Руры. В этих образцах «домашней» литературы запечатлен быт издательства с разных точек зрения, что объяснялось характером владельца альбома и тем социальным положением, которое он занимал в издательстве. Так, К. И. Чуковский был сотрудником издательства, Д. С. Левин заведовал в нем хозяйственной частью, В. А. Сутугина занимала должность секретаря, а Р. В. Рура служила буфетчицей. В общем контексте альбомных записей воссоздаются факты из быта петроградских литераторов. Альбомные автографы А. А. Ахматовой, В. М. Алексеева, А. А. Блока, Н. С. Гумилева, М. Горького, Е. И. Замятина, В. А. Зоргенфрея, Г. В. Иванова, И. Ю. Крачковского, Н. А. Оцупа, Ф. Сологуба, В. Шилейко, Ю. Щуцкого и других воссоздают характеристики сотрудников.
Т. А. Кукушкина определила альбомы В. А. Сутугиной и Р. В. Руры как пьесы, воссоздающие сложную картину бытования «Всемирной литературы». В соответствии с таким определением каждая запись (или автограф) являются репликами единого текста.
Сохраняя определенную автономность, издательство «Всемирная литература» объединила многих представителей творческой интеллигенции, оппозиционно настроенных к новой советской власти. К. Л. Зелинский определил «Всемирную литературу» как «артель поэтического труда».3 Борьба за культуру, а точнее, за культурное наследование (не случайно работа издательства оценивалась как «крестовый поход 4) в условиях петроградской действительности велась одновременно с повседневной борьбой за физическое выживание. Таким образом, два плана жизни (творчество и быт / возвышенно –небесное бытие и прозаически-земное существование) оказались слиты воедино. Изменение жизненных ценностей отразилось как на той, так и на другой стороне жизни, о чем свидетельствует альбомная поэзия 1920-х годов. С этой точки зрения альбом становится равноправным литературным текстом, памятником определенной эпохи.
В 20-х годах прошлого века жизнь в Петрограде становится невыносимой: обострившаяся экономическая ситуация приводит к трагическим противоречиям в среде творческой интеллигенции. Альбомные записи позволяют реконструировать условия жизни литераторов в этот период. Незначительные издательские возможности и цензурные ограничения официальных издательств компенсируются возможностью свободно и самостоятельно выражать свои мысли на страницах «домашних» альбомов. Литераторы были лишены элементарных прав, предоставляемых лицам других профессий. В свете этого, как считают Т. А. Кукушкина, альбомы сотрудников «Всемирной литературы» — «явление необычное для жесткого послереволюционного времени»5 , но , с другой стороны, это явление вполне органично для коллектива издательства, представляющего собой совершенно особый мир, своего рода творческое содружество.
Цель нашей работы заключается в анализе альбомных записей 1920 годов на примере альбомов В. А. Сутугиной и Р. В. Руры.
Исходя из поставленной цели, задачи можно сформулировать следующим образом:
— определить состав альбомов В. А. Сутугиной и Р. В. Руры как единого текста;
— рассмотреть особенности альбомной поэзии начала XX века;
— сравнить записи, сделанные в альбомах В. А. Сутугиной и Р. В. Руры, с альбомной традицией XIX века;
— выявить моменты быта издательства «Всемирная литература», отраженные в альбомах сотрудников;
— обозначить функции данных альбомов.
Структура работы продиктована поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, в которых последовательно анализируются альбомы В. А. Сутугиной (первая глава) и Р. В. Руры (вторая глава), заключения, примечаний и списка литературы.
Глава I
Альбом В. А. Сутугиной как факт литературного быта 1920-х годов
Первый из рассматриваемых нами альбомов принадлежал секретарю издательства «Всемирная литература» Вере Александровне Сутугиной (1892-1969). В. А. Сутугина происходила из семьи русских интеллигентов, ее отец был преподавателем Санкт-Петербургского университета. Сама Вера Александровна окончила Высшие Бестужевские курсы и Археологический институт. За время работы в издательстве она выполняла работу секретаря Коллегии экспертов и редколлегии журналов, выпускаемых «Всемирной литературой» («Восток», « Современный Запад»), впоследствии она становится личным секретарем заведующего издательством (сначала А. М. Тихонова, потом – М. Горького).
В мемуарных воспоминаниях и записях сотрудников издательства Сутугиной отводится роль знаменоносца (И. Крачковский), адепта (А. Тихонов), хранительницы очага (М. А. Кузмин); восхваляются ее положительные качества (ум, образованность, талант человеческого общения, щедрость). В рождественской «Кантате» (1923) М. Кузмина имя Сутугиной на фоне других участников не названо, но безымянный образ девы-хранительницы, оберегающей издательство, прямо указывает на нее:
Из дев на всю обитель
Одну лишь мы храним.
К. Н. Чуковский даже по прошествии многих лет писал в. А. Сутугиной: «Помню, что все мы, «всемирные литераторы», относились с глубочайшим почтением к Вашей квалифицированной, умной работе, к Вашим энциклопедическим знаниям, что Вас – Вашу своеобразную духовную личность любили и академик Ольденбург, и акад<емик> Алексеев, и Лозинский, и Замятин, и Тихонов».6
«Всемирная литература» являлась не только и не столько издательством в общепринятом значении этого слова, сколько союзом единомыслящих творческих людей, объединенных по принципу «Арзамаса». И в том, и в другом литературном обществе царил дух свободного творческого общения. Как и арзамасцы, «всемирные литераторы» имели шутливые прозвища: Тиша (А. Н. Тихонов), Замутий (Е. И. Замятин), Корней (К. Н. Чуковский), Витийственный Аким (А. Л. Волынский), Максим (М. Горький). Подобные прозвища были и у Сутугиной: аллегорически она была представлена в образе Фидеи, что в переводе означает «верная». На выбор данного образа повлияла семантика имени: Вера -> верная.
Домашнее, уменьшительно-ласкательное имя Сутугиной – Вива. Возможно, оно представляет собой заздравное пожелание, имеющее связь с латинским viva – «да здравствуйет». На страницах альбома домашнее «Вива» соперничает с официальным именем Вера (как вариант уважительного преклонения – Вера Александровна). Однако и от имени Вива образуется уменьшительно-ласкательное «Вивинька» появившееся уже в первой записи, открывающей альбом.
Поскольку в издательстве господствовал не серьезный канцелярский дух, а шуточная стихия, в записях, касающихся В. А. Сутугиной, присутствует не только сакрализирующее ее образ (Вера- символ веры), но и профанирующее начало. Так, например, в противоположность к. Н. Чуковскому, восхищающемуся умом и образованность. Веры Александровны, Ф. Сологуб называл ее зеленой ослицей, тем самым подчеркивая обратные качества.
В «домашней литературе» издательства с именем Сутугиной связаны два самостоятельных сюжета: в пьесе В. А. Зоргенфрея «Ежегодник «Всемирной литературы» Сутугина выведена в образе дворовой девки Верки, сидящей секретарем перед кабинетом Тихонова и не понимающей ситуацию; в пьесе М. Н. Рыжкиной и А. И. Оношкович-Яцыны «Рука Всевышнего издательство спасла» разворачивается сюжет спасения секретаря, когда все литераторы встают на ее защиту.
В частушках 1920-х годов на фоне разрушающегося быта, когда многие из сотрудников издательства уезжают за границу Сутугина («тетя Вера») остается единственной утешительницей:
Ходит каждый кошкой злой,
Кошкою серою,
Мы утешены одной
Тетей Верою.
Судьба самой Веры Александровны сложилась трагически. Уже после закрытия издательства в 1931 году она была арестована и выслана из Ленинграда, реабилитирована в 1956 году. Пребывая в ссылке, она пишет воспоминания о годах работы в издательстве, которые остались незавершенными. Возвращается в Ленинград она только в 1961 году. На протяжении долгих лет Сутугина ведет свой альбом, который был начат в январе 1920 года, а последняя запись в нем сделана в сентябре 1967 года. Записи, относящиеся к годам работы во «Всемирной литературе», датируются концом сентября 1921 года – 30 сентября 1923 года.
В литературных кругах альом В. А. Сутугиной стал известен под названием «Сутучоккалы» (по аналогии с альбомом К. и. Чуковского – «Чукоккала»). После смерти владельцы несколько лет альбом хранился у ее сводного брата П. А. Тюленева, а в 1973 году был приобретен Пушкинским Домом. Описание альбома сделано Т. А. Кукушкиной в 1997 году, но только в 2002 году он был опубликован в «Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома».
Открывается альбом В. А. Сутугиной целой серией поздравительных записей ко дню Ангела – 30 сентября 1921 года, причем даты поставлены в старом (17/9 – В. И. , «17 сент.» — В. Алексеев, «в 17-ый день сентября» — Ю. Щуцкий), так и в новом стиле (30 сентября – В. Шилейко, А. Ахматова). Особенно интересны двойные даты (17/30 сент. – Б. Сильверсван, И. Крачковский). Примечателен факт, что поздравления вписываются не по случаю дня рождения, а по случаю дня Ангела. В этот день празднуют свои именины Вера, Надежда, Любовь и София.7 Возводя имя «Вера» к слову «вера», отмечается, что Вера Александровна – добрый ангел –хранитель издательства. В этом контексте день ангела приобретает дополнительный оттенок – день Ангела-Веры. Это сопоставление отсылает к альбомным записям XIX века, в которых сравнение девушки (владелицы альбома) с ангелом было традиционным. В 1921 году празднование дня Ангела вступает в противоречие с настоящей культурной традицией. Записи, сделанные в альбоме В. А. Сутугиной 30 сентября 1921 года, разнородны. В рамках альбома, с одной стороны, возникают возвышенный, с другой, — шутливо-иронический образ хозяйки, сакральные элементы чередуются с профанными.
Альбомы, как правило, заполнялись в хронологической последовательности. Имело значение место, на котором делалась запись. Согласно классической альбомной традиции, первая страница в альбоме часто оставалась незаполненной. Считалось, что она предвещает заполнившему какое-либо несчастье, вплоть до смерти. На первой странице в альбоме В. А. Сутугиной сделана следующая запись: «Дорогой Вивиньке в день Ангела» (Л.2)8 . Сделавший эту запись пожелал остаться неизвестным, поставив только свои инициалы – В. И. Исследователями так и не установлено, кому принадлежит этот автограф. Отсутствие полного имени, как нам кажется, можно объяснить несколькими причинами: во-первых, возможным следованием альбомной традиции XIX века; во-вторых, желанием остаться неизвестным широкому кругу лиц, читающих альбомные записи. Сама запись свидетельствует о том, что ее автор – близкий Вере Александровне человек, на что указывает обращение «дорогой Вивиньке». Эта традиционная поздравительная запись задает первую тему альбома, что подтверждают последующие записи.
Со второго листа в альбоме помимо словесных надписей появляются рисунки, причем рисунок первичен, а тексту отводится сопроводительная роль. Первый рисунок изображает стоящего задом слона. На первый взгляд, фигура диссонирует с общим потоком комплиментарно-поздравительных записей, но последующая надпись дает необходимые пояснения: «Этого слона я нарисовал единственно из почтения к Вере Александровне» (В. Шилейко) (Л. 2). По духу надпись и рисунок несут противоположные смыслы, если рассмотреть сам рисунок с иной точки зрения: фигура стоящего задом слона очень похожа на фигуру наклонившейся женщины. В этом случае рисунок может быть отнесен к жанру изобразительных «обманок», настраивающих зрителя на двойное восприятие: за одним планом находится второй. Такого типа рисунки создают и двойное настроение: серьезность – смех. Их задача – низвести до профанного смысла вполне серьезные вещи. Рисунок слона в альбоме Сутугиной задает пространство альбомной игры.
Сопровождающая рисунок надпись, действительно, приличествует дню ангела и утверждает единственную точку зрения =- слон нарисован исключительно из почтения к владелице альбома («единственно из почтения»). Почтительность проявляется также и в именном варианте обращения: Вера Александровна, а не Вивинька. На этом же листе поставлен автограф Анны Ахматовой, который можно воспринять как согласие с записью мужа (В. Шилейко). Таким образом, эти два автографа представляют собой единое целое.
Принимая во внимание, что В. К. Шилейко был исследователем ассирийской и вавилонской культуры, понятно, почему в качестве поздравительного рисунка был избран слон. С образом слона с древних времен связывались положительные начала: он был эмблемой силы, долголетия, процветания, счастья. Древние изображали веру в виде слона, думая, что это животное поклоняется солнцу. В восточной традиции слона воспринимали как символ духовного знания и стабильности. Ганеша – бог счастья с головой слона, считался покровителем мудрости и литературы. Все приписываемые слону качества можно рассматривать как пожелания имениннице. Можно также предположить, что с образом слона связывалось тотемистическое представление: слон как покровитель литературы вообще и издательства «Всемирная литература», в частности. В этом плане необходимо отметить еще один значимый факт: поскольку слон почитался как священное животное, он всегда изображался спереди или сбоку. Стоящий задом слон аллегорически указывал на положение литературы в обществе первых десятилетий XX века.
Тема «слона» продолжена и в других записях. Так, в записи исследователя иранской литературы, Е. Э. Бертельса (Л.5), упоминается «поза слона» — одна из поз йоги – и человек, восседающий в этой позе, т. е. сам автор данной записи. Необходимо заметить, что и здесь сакральное начало низводится до профанного: «поза слона» подается как фирменное блюдо, объяснить которое автор не пытается, а отсылает к Ю. К. Щуцкому и В. А. Эберману, делая специальную оговорку. Автор ссылается на них как на посвященных в «братство слона». Если принять наши прежние предположения, то и в данном случае слон будет непосредственно связан с литературой. Тогда образ человека, сидящего в позе слона, несет в себе метафорическое осмысление образа литератора, а «братство слона» — само издательство «Всемирная литература». В пору голода и трудного финансового положения только «поза слона» — созерцательная поза – помогала выжить, поэтому и считалась фирменным блюдом. Не случайно поэтому, что тема еды становится центральной в альбомной традиции первых десятилетий XX века. В альбоме В. А. Сутугиной речь идет не о земной пище, а о духовной.
Традицию рисуночного письма продолжил на страницах альбома филолог-сканадлист Б. П. Сильверсван. На своем рисунке он изобразил плывущего в лучах солнца лебедя. Подпись под рисунком вводит элемент куртуазности: «Рыцарь Солнца» (Л. 31) и «Благодарный и любящий лебедь» (Л.3) Обе подписи, с одной стороны, объясняют рисунок, и сам рисунок являются составляющими частями шарады: в переводе со шведского silver – серебряный, svan –лебедь. Сам себя Сильверсван возводит в Рыцари солнца, т.е. Веры Александровны, которая выступает в роли Прекрасной Дамы.
В свете куртуазной традиции непременным атрибутом рыцаря был герб – именно эту роль и выполняет рисунок. Рисунок Б. П. Сильверсвана имеет двойственную природу. Лебедь указывает как на мужское начало (атрибут бога поэзии аполлона), так и на женское (атрибут богини любви и красоты Афродиты). Называя себя рыцарем солнца, автор записи подчеркивает, что лебедь принадлежит к числу солярных символов. Во второй подписи, сопровождающей рисунок, на первый план выступает лебедь. Таким образом, в отношении Прекрасной Дамы Сильверсван выступает в роли рыцаря- лебедя – Лоэнгрина.
В последующих записях образ Прекрасной Дамы будет варьироваться в зависимости от традиций той культуры, «от имени» которой выступает пишущий. Последующие альбомные записи вступают в диалог с предыдущими. Первым рисунок как вариант альбомного письма задает В. К. Шилейко, к нему присоединяется Б.П. Сильверсван. На тему рисунка рассуждают И. Ю. Крачковский и В. М. Алексеев. В рамках этого диалога каждая запись становится репликой и новым поворотом в теме.
На четвертом месте записаны посвящения В. А. Сутугиной, сделанные рукой востоковеда- исследователя арабской культуры. Игнатия Крачковского. Им предшествуют следующая запись, объясняющая отсутствие рисунка: «Рисовать ислам запрещает – это – во-первых, рисовать не умею – это во-вторых, а поэтому ограничиваюсь пожеланиями и неожиданным автографом» (Л.4). Эта запись указывает на отход от рисунка и установление словесной доминанты. Причем, система доказательств выстраивается от общего утверждения к частному утверждению: запрет рисовать оправдывает неумение. Однако неожиданный автограф вступает в противоречие с предыдущими абсолютными положениями: выполненный на арабском языке, он становится частью рисуночного письма. Арабская вязь представляет собой вариант «китайской грамоты», непонятной для непосвященных. Поскольку никакого перевода к оригиналу не прилагается, эта запись вписывается в общий контекст рисунков.
В переводе А.А. Долининой посвящение Сутугиной выглядит следующим образом:
Принадлежность к женскому роду не порочит имени солнца,
А принадлежность к мужскому роду не придает славы месяцу.
Если ты превосходишь всех людей, среди которых находишься,
То ведь мускус составляет часть крови газели.
В рамках альбомной лирики это стихотворение также можно отнести к разряду комплиментарных. Сам Крачковский «спрятался» под псевдонимом Ватрослав, что в переводе с арабского, означает «струна славы». В самом посвящении есть упоминание о солнце, которое связывается с женским началом. В этом четверостишии указывается на очевидное превосходство Веры Александровны, но подается это не как исключительное событие, а как вполне естественное положение. В последней строке содержится упоминание о газели – этот же образ возникает в записи в. А. Эбермана, которая посвящена кузине с газельими глазами (Л.6). Сравнение с газелью, с одной стороны, говорит о качествах Веры Александровны, с другой – показывает теснейшую связь между учителем (И. Ю. Крачковский) и учеником ( В. А. Эберман). Газель в восточной культуре считалась воплощением высшего существа, духовным идеалом. Выделенная особая деталь во второй записи – газельи глаза – символизируют созерцательную жизнь.
Таким образом, и слон, и газель – животные, связанные с покоем, созерцанием. Востребованные из разных культурных традиций, они характеризуют предмет изображения одинаково.
Проанализированные выше записи органично продолжают комплиментарное стихотворение, написанное Б. Я. Владимирцовым на монгольском языке. В отличие от предыдущих автографов этот текст не сопровождается ни переводом, ни указанием на автора. Эта запись, выполненная на одном листе с записью Крачковского, вписывается в единый «рисуночный» текст. В соответствии с особенностями монгольской поэзии, указание на автора содержится в последней строке. Стихотворение (а, вернее, «благопожелание») принадлежит Балдуру, что в переводе означает «медоточивый» и указывает скорее на творца, чем на его имя. Таким образом, автор отходит на второй план с целью расточить медоточивые слова в адрес «прекрасной» Верочки, кому и адресовано пожелание. Надпись Владимирцова вступает не только в диалог, но и в полемику с надписью Крачковского. Если в первом случае превосходство адресатки воспринимается как само разумеющееся, то во втором оно подается исключительное явление:
Прекрасным появлением
Пусть процветаешь ты.
Немыслимо великим образом
Появляешься, как свет луны.
Сравнение Сутугиной с лунным светом вписывается в общее представление о влиянии луны на жизнь женщины. Появление луны (смена лунных фаз) является символом вечной молодости, что соответствует пожеланию процветать.
Надпись китаиста Василия Алексеева (Л.4) продолжает развивать тему рисунка. В записи обыгрывается само понятие «рисунок»: рисовать можно не только рисунки, но и иероглифы. К этому же способу «рисования» иероглифов прибегают Ю. Щуцкий, В. Шилейко и Е. Бертельс. Но, в отличие от двух предыдущих автографов, автограф Алексеева, помимо китайского оригинала, сопровожден переводом и личной подписью. В соответствии с законами китайской традиции, в надписи выражается почтение пишущего тому лицу, кому адресованы «поздравительные» иероглифы, пожелание счастья и долголетия даны в гиперболизированном виде («Миллионы счастья да приблизятся к Вам!», долговечность сравнима с Южно-Китайскики горами), после словесного пожелания всяческих благ следует ритуальный поклон. Все эти моменты (почтительное приветствие, пожелание, поклон) являются частями придворного этикете и составляют основу общения с чужестранцами.
В диалог с надписью В. Алексеева вступает надпись на японском языке, сделанная его учеником, Юлианом Щуцким, оставившим свои «поздравительные» иероглифы (Л.5). Композиционно на страницах альбома эти записи располагаются параллельно друг другу, что еще больше показывает их внутреннее родство: иероглифы располагаются справа, перевод – слева от иероглифов, подпись – снизу. Обращаясь к традициям японской культуры, Ю. Щуцкий не просто делает прозаический перевод, а создает его, ориентируясь на особенности японской поэзии. За ясностью и простотой строк скрывается сложнейший мир мыслей и чувств: белые хризантемы становятся источником радости.
Частично стихотворение Щуцкого напоминает японскую танку, в целом же его можно отнести к жанру «длинных песен», не ограниченных размером. Традиционно восточная поэзия пользуется ограниченным количеством эпитетов и метафор. Как правило, эти средства выразительности постоянны и сопровождают устойчивые образы. Например, у Щуцкого используется сравнение белых хризантем с инеем.
Тема природы – одна из центральных в японской поэзии, а так как человек неотделим от природного мира, природа являет зримый образ его души.
Щуцкий использует прием «специальных строф», позволяющий в цветении хризантем увидеть приближение зимы. Дважды повторенное словосочетание «белый иней» в первом случае является сравнительной характеристикой цветов хризантем, во втором – предвестником снега.
Упоминаемая в стихотворении хризантема, исходя из «языка цветов», в Японии является символом долголетия и радости, возможно потому, что этот цветок, в отличие от других, продолжает цвести даже зимой. Поэтому принесение в дар хризантемы означало пожелание долгих лет жизни.
Для того чтобы убедиться в точной стилизации японского текста, можно привести несколько примеров из японской классической поэзии, где возникает образ хризантемы:
Луна… Хризантемы… В придачу к ним
Клочок небольшого поля.
Пьет свой утренний чай
Настоятель в спокойствии важном.
Хризантемы в саду.
Рушит старуха рис.
А рядом – знак долголетия –
Хризантемы в цвету.
Помимо долголетья с хризантемами связаны покой и созерцание. Таким образом, в рамках альбома ведущее созерцательное настроение выражается не только зооморфными, но и флористическими образами-шифрами.
Подпись же, сделанная под иероглифами, уже не принадлежит восточной традиции, наоборот, она представляет собой стилизацию летописного текста:
Старец угрюмый Юлиан Щуцкий
Начертал он грамотою японскою
В лето от Рождества Христова
1921-ое, в 17-ый день сентября. (Л.5)
Если учесть, что Ю. Щуцкому в 1921 году исполнилось 24 года, то определение «старец угрюмый» звучит иронично. Однако пребывание в образе старца в свете традиции прямо указывает на его мудрость, а не на возрастные лета.
«Разрывает» иероглифические надписи В. Алексеева и Ю. Щуцкого уже упоминающаяся шутливая надпись Е. Бертельса (Л.5). На первый взгляд, его запись представляет собой чудовищное нагромождение текстов, написанных на русском, в который входит французская фраза, и иранская языках, сопровождаемых иероглифами. Первая часть записи звучит так: «Рисую specialite de maison» (фирменное блюдо). Рядом с ней изображена симпатичная мышка; расположившийся под ней иероглиф изображает позу слона. Такой параллельный рисунок указывает на заведомо несовместимые образы: мышь – слон (маленькая мышь приводит в трепет огромного слона). Принимая во внимание, что восседающими в позе слона являются «всемирные литераторы», то роль мыши отводится секретарю.
Вторая часть надписи, выполненная на персидском языке, представляет собой словесную игру:
Я не помню ни одного бейта. Я невежда.
Поэтому я ничего не могу написать.
В этих двух строчках уже содержится несколько явных противоречий. Во-первых, автор утверждает, что не помнит ни одного бейта, но создает ничто иное, как бейт (двустишие); во-вторых, он прямо называет себя невеждой, хотя в полной записи демонстрирует знание нескольких языков; в-третьих, здесь утверждается, что он ничего не может написать, а в полной записи выдает эту надпись за стихи. Подобные тексты расширяют рамки альбомной игры, основанной на шутливом пародировании собственного образа. Данный текст не является комплиментарным, и хотя в нем отсутствует дата, можно точно сказать, что и он написан в день ангела Веры Александровны, т.е. 30 сентября. На это указывают две обрамляющие его надписи, Алексеева и Щуцкого, датированные этим днем. В остальном же запись Бертельса укладывается в альбомную традицию, начатую другими авторами: возможно, что в его текстах эти два плана – рисунок и стихи – не разделяются композиционно, а слиты в единое целое.
Отличие этой записи от всех остальных в альбоме Сутугиной в другом: это единственный текст, сопровождающийся примечанием, задает альбомную интригу. Внизу под рисунком мыши и таинственным иероглифом сделана приписка: «Об этом прошу спросить у fr ей» (Л.5). При этом, однако, не разъясняется, о ком идет речь. Т. А. Кукушкина возводит это слово к шуточным прозвищам Щуцкого («Фра I) и Эбермана («Фра II), восходящим к фифанскому названию египетского бога солнца Ра (Фра). Ей же предпринята попытка выявления фонетических соответствий. Принимая во внимание этот факт, круг обладающих тайной увеличивается: ими могут быть В. А. Зоргенфрей или А. А. Фрейман. Нам, кажется, что предположения исследователя и в первом, и во втором случае неверны.
Ошибочность выводов, на наш взгляд, кроется в том, что Т. а. Кукушкина стремится найти конкретного человека, к кому обращена приписка Бертельса. Поиск ведется на основании именного сходства, будь то фамилия или шуточное прозвище. При этом не учитывается тот факт, что как первое, так и второе, скорее всего, пишутся с заглавной буквы. В записи Бертельса буква строчная, к тому же приписанная после апострофа частичка «-ей», может являться окончанием какого-то слова во множественном числе. Принимая во внимание это положение, круг поисковиков пойдет в ином направлении. Из этого следует, что приписка отсылает не к одному человеку (хранителю тайны), а ко многим, или нескольким людям. Учитывая, что первая часть слова написана на европейском языке, оно должно быть известно, так как имеет общепринятое сокращение и не может быть понято и без дополнительных комментариев. Восстанавливая целое понятие, можно принять в качестве исходных два варианта: французское слово «frère» (брат) и английское слово «frande» (друг). Прибавляя вторую часть, наиболее вероятностным оказывается второй вариант: frande+ ей -> freй. В данном контексте приписка Бертельса отсылает к друзьям, т.е. к сотрудникам «Всемирной литературы». По сути, сама надпись, принадлежащая Бертельсу и составленная на пяти разных языках, представляет собой микромодель самого издательства, в основе которого лежали братско-дружеские отношения.
Именно в этом плане прочитывается надпись В. Эбермана (Л. 5 об., Л. 6), подписавшегося «Кузен В. Э.». Сама запись содержит следующее обращение к В. А. Сутугиной: «Привет Вам, кузина с газельими глазами». В самой записи утверждается не физическое, а духовное родство. Автор прячется за маской «Зухлуля пустыни», т.е. волка. И, как следствие, этот же образ возникает и далее – в записи Н. Оцупа (Л.6 об.) появляется «волк любви». Этот текст написан на латинском языке и представляет собой пародийное подражание стихотворению древнеримского поэта Катулла. В альбоме Оцуп выдает стилизацию за подлинный автограф, отмечая: «Из Катулла, неизданный отрывок». Чтобы было достовернее, Оцуп в приписке указывает, что у Катулла, имеется вариант начала стихотворения: «o Vera!», что непосредственно указывает на адресатку послания. В данном отрывке его заменяет puella –«девушка». Дальнейший текст изобилует прилагательными в превосходной степени, главными из которых оказываются «прекраснейшая» и «знаменитейшая». Эти определения указывают на главные качества их носительницы – красоту и родовитость.
В записи В. Шилейко на седьмом листе альбома предстает уже собственно ребус – составленная из комбинации рисунков и цифр пословица «Сама себя бьет, коли плохо жнет» (Л. 7). Ниже приведена клинописная запись «Песни о невинном страдальце», что можно связать с предыдущим автографом Н. Оцупа. «Невинный страдалец» — пожранный «огнем любви». Надпись в. Шилейко разрушает общий комплиментарный тон предыдущих записей. Автор записи поднимает тему «превратности вещей», что задает диссонирующее настроение меланхолии. Страдание души выливается в форму стона- «плохо мне, плохо».
Возможно, следующая запись с. Ольденбурга (Л. 7 об.) на санскрите – прямой ответ на реплику В. Шилейко. Философии пессимизма С. Ольденбург противопоставляет один из основных постулатов индийской философии, гласящий: «То есть ты». Подобное представление восходит к учению о реинкарнации, т.е. о преемственных воплощениях / существованиях души. Таким образом, оборачиваясь, человек оказывается лицом к лицу не с чужеродным и враждебным, а родственным началом. В этом и заключается тайна жизни. На столь мудрое индийское изречение А. Л. Волынский отвечает классическим греческим изречением, делая подстрочный перевод: «… Посвященный в тайну жизни не предается печали» (Л. 8). Начальное многоточие указывает на предшествующий фрагмент мысли. Необходимо отметить, что все три выше проанализированные записи относятся к декабрю 1921 года, причем, запись В. Шилейко не имеет даты, но она восстанавливается по окружающим ее автографам (запись Н. Оцупа сделана 30 ноября, С. Ольденбурга – 9 декабря) и сделана между двумя сопровождающимися их датами. Запись Е. Замятина датируется 30 декабря 1921 года, следом за ней идет запись А. Волынского. Этот ряд записей задает «новогодний» контекст альбома, в рамках которого возникают темы жизни и смерти, старого и нового, молодости и старости.
Запись Е. Замятина вводит тему настоящего и будущего: «Не будь такой хорошей: это всегда лучше» (Л. 7 об.). Эта надпись, с одной стороны, включается в контекст общих размышлений, с другой, — может быть расценена как новогоднее пожелание.
Автографом П. Я. Заволокина открывается собственно поэтическая часть альбома. П. Заволокин – пролетарский поэт – вписывает в альбом В. А. Сутугиной стихотворение «Буря» (Л. 8 об.), которое нарушает общую философскую направленность предыдущих текстов. Центральными в данном стихотворении оказываются романтические мотивы. Возникает формула жизни-борьбы в духе раннего Горького: гордый человек вступает в «отважный бой» со стихией и выходит из него победителем. Автор пишет об этом в полной уверенности за будущий счастливый исход. В первой строфе назывные предложения задают сюжетную ситуацию:
Бушует вихрь. На небе тучи.
Сверкает молния в дали.
В лесу раздался треск могучий,
На море тонут корабли.
Вторая строфа представляет собой описание разыгравшейся на море стихии. Помимо собственных романтических реалий (челнок, рыбак, море), возникают реалии более поздней культурной традиции, в частности, такие более прогрессивные вещи, как корабли и звук сирены. На фоне рыбачьего челнока сирена диссонирует. Такое же противоречие наблюдается и в развитии темы: корабли тонут (исходная ситуация) – челнок не утонет (финальная ситуация). Автор дает этому факту следующее объяснение: рыбак вступает в бой с бурей, поэтому и оказывается победителем.
При сопоставлении с романтическими текстами одноименных стихотворений Е. А. Баратынского (1824) и Н. М. Языкова (1839) можно наблюдать сходные ситуации. Так, у Заволокина первая строфа совпадает с описанием бури у Баратынского:
Завывала буря, хлябь морская
Клокочет и ревет, и черные валы
Идут, до неба восставая,
Бьют, гневно пеняся, в прибрежные скалы.
Одинаков и общий рисунок их стихотворений – человек вступает в борьбу с волнами.
У Языкова также показана надвигающаяся буря, приметы которой – нависшие над морем тучи, бушевание грозы, водные громады волн. В стихотворении «Пловец» (1829) возникает ситуация, параллельная стихотворению П. Заволокина: пловец (рыбак) вступает в поединок с бурей. Разница заключается только в том, что лирический герой в стихотворении Языква показан в ожидании бури («Будет буря, мы поспорим // И помужествуем с ней»), а у Заволокина рыбак уже вступил в борьбу.
Однако на фоне современных событий 1920-х годов, когда велась ежедневная борьба за выживание, эти образы кажутся отвлеченными…. Поэтому следующее стихотворение Натальи Грушко, представляющее страничку из поэтического дневника (Л.9), демонстрирует иной, в отличие от стихотворения П. Заволокина, вид борьбы. В этом стихотворении развертывается в сюжет один из эпизодов «продуктовых походов». «Лицемерно-грубый век» соединил быт и поэзию: тонкие пальцы держат в руках не лиру, а мешок с продуктами. Хрупкость, воздушность лиры противопоставляется тяжести мешка. На первый план выступают страдания поэта, с уст которого срываются обвинения и молитвы. Первые направлены в адрес «палача»; вторые обращены к стране. Размышления поэта заключены в рамки традиционного романтического сюжета противопоставления поэта толпе. Помимо данного конфликта развивается конфликт государства и личности. Причем, обращение к тирану указывает прямо на И. В. Сталина, хотя имя его не названо:
Жестокий, грубый человек,
Палач певцов, палач поэтов,
В наш лицемерно-грубый век
Я здесь зову тебя к ответу.
Символом жизни-поэзии становится роза, брошенная под ноги слону. Вновь возникающий здесь образ слона воплощает разрушительную силу. Слон и роза, как символические варианты жизни/смерти противопоставлены по следующим основаниям:
Данные оппозиционные пары позволяют сделать вывод о том, что роза и слон воплощают собой разные сферы жизни: с розой связана область поэзии, со слоном – область быта (прозаические будни издательства).
Запись Б. Кржевского от 10 декабря 1921 года (Л. 9 об.) на испанском языке вводит в альбом В. А. Сутугиной испанскую тему. Двустишие, однако, передают прозаическую мысль:
Кто не курит табак и не пьет вино,
Того дьявол уведет по другой дороге.
Мотив дороги, возможно, перешел в эту запись из предыдущего стихотворения, в котором изображался скорбный жизненный путь. В записи Кржевского возникают две возможные жизненные дороги: первая – путь порока (курение табак, вино), второй, исходя из последующего контекста альбома, — путь любви. Важно отметить, что и по тому, и по другому пути человек идет, сопровождаемый дьяволом. Возможно, что размышления о возможных вариантах земных путей связаны с фигурами как адресата, так и адресанта. Первая дорога – жизненный путь автора записи, вторая – Веры Александровны, поскольку в дальнейших записях тема любви доминирует.
В записи Анны Ганзен, представляющей собой фрагмент стихотворения Г. Ч. Андерсена «Мелодии сердца» (Л. 10), на первый план выступает мотив любовного признания. Клятвы в вечной любви сопровождаются восхвалением и возвеличиванием возлюбленной (царица чувств), содержится указание на божественное провидение:
Тебя само мне небо указало…
Сама запись не позволяет четко идентифицировать фрагмент на предмет того, от лица кого производится это призвание: возможен как мужской, так и женский вариант. На это указывает и «двойное авторство». Перед началом стихотворного фрагмента вписана фамилия Андерсена, подпись и перевод указывают на Анну Ганзен. Таким образом, в первом случае речь идет о любовном признании, во втором – о дружеском поклонении. Второй вариант можно рассмотреть в рамках «сапфического» сюжета, популярного в это время в связи с развитием «женской» поэзии.
Жизнеутверждающая нота перевода А. Ганзен сменяется элегическими настроениями Николая Оцупа («Элегия», Л. 10 об. – Л. 11). Эту элегию можно отнести к разряду кладбищенских, которые были популярны в романтизме. Центральными мотивами в ней становятся мотивы надвигающейся смерти и уходящей жизни, параллельно вводится мотив памяти, поэтического наследия. Каждая строфа стихотворения начинается вздохом разочарования: «О, жизнь моя!» / «О, жизнь» В первой строфе развивается мотив уходя из мира. Жизнь человеческая сравнивается с легкокрылым облаком: умереть – растаять. Жизнь для лирического героя связана с движением, смерть- с неподвижностью. Дыхания жизни окружают после смерти «неподвижную тень» лирического героя. К ним относятся говорливый клен, вьющиеся стаи комаров, мелькание ласточки, жужжание шмеля. Лирическому герою горько сознавать, что после его смерти мир не понесет никакой утраты, мировой порядок не будет нарушен:
И в небе ласточка мелькнет не сожалея,
И не утихнет шмель вокруг цветов шалфея.
На переход героя из одного мира в другой указывает знак «…». До смерти лирический герой тоже находится в движении, причастен бытию. Приметами жизненного пространства оказываются говорливый клен, листья которого по своей форме напоминают сердца, легкий небосклон и проливное солнце. Видение души после смерти принципиально иное: появляются кусты белой сирени, над которыми идет жизнь. Когда лирический герой жил, то его жизнь проходила на земле «под» деревьями, солнцем, небом. Став бесплотной тенью, он парит «над» цветами вместе с комарами, ласточками, шмелями. Живя на земле, взор лирического героя обращен к небу, покинув мир, его взор устремляется к земле, чтобы запомнить мельчайшие детали бытия. Посредством изменения видения меняется и ценностный план, что приводит к размышлениям не только о своей собственной жизни, но и о жизни вообще (II строфа).
Во второй строфе возникает образ могилы, но это не могила лирического героя, а Веронская гробница Ромео и Джульетты. Для переводчика английской поэзии ведущим становится имя Шекспира – поэтому возникает упоминание героев его трагедии. Лирическому герою важно решить вопрос о вечности, что для него связано с вопросом о бессмертии творений. На фоне этих тем вводится мотив посмертной славы. Имя Шекспира не названо ни разу: о нем, как об авторе, говорят вечно живущие образы его героев:
Джульетта! Ромео! Веронская гробница
В цветах и зелени навеки сохранится.
В этом поэтическом образе цветущей могилы объединяются могилы жизни и смерти.
В III строфе лирический герой озабочен вопросом своего творческого наследия. Отвечая на вопрос о том, что оставит поэт, умирая, даются следующие ответы: студенческий трактат, томики стихов, равнодушие, слезы жаркие, «тело тихое». Шекспировский сюжет о великой любви Ромео и Джульетты трансформируется в двойственный сюжет любви лирического героя. При жизни его окружают любовь «ветреной и милой» и охлаждение у «верной и постылой», после смерти ситуация изменяется: любимая равнодушно воспринимает известие о смерти поэта, в то время как «постылая» проливает над гробом жаркие слезы. Сопоставляя земной и поэтический сюжеты, в финале стихотворения лирический герой возвращается к первоначальным образам – клену, солнцу, небу – как устойчивым образным моделям бытия, на что указывают постоянные эпитеты «говорливый», «проливное», «легкий».
Как правило, подобного рода тексты в альбомной традиции сопровождались трогательными рисунками, изображающими могилу или приличествующие случаю кладбищенские символы (крест, венок, рыдающая дева и т.п.). в дано случае рисунки отсутствуют, возможно, потому, что автор стихотворения не так сентиментален. Доминирующим настроением «Элегии» оказывается легкая грусть, а не глубокая меланхолия. В противоположность традиции, в финале появляются радостные ноты, на что указывает восклицательная интонация. Точка зрения героя не концентрируется на бездыханном теле и могиле, наоборот, его взгляд обращен ввысь – к клену, солнцу и небу.
Следующая запись, сопровожденная переводом, выполнена на шведском языке Эрнестиной Вейнбаум (Л. 12). Она продолжает развивать элегические мотивы, но это уже не мотив жизни и смерти, как было в предыдущем стихотворении, а мотив утраты, расставания с возлюбленным. Лейтмотивом является следующая поэтическая строка:
О возлюбленный мой, неужели ты скоро не придешь?
В финале стихотворения оно приобретает новую вариацию:
О возлюбленный мой, неужели ты не скоро придешь?
Весь корпус стихотворения, расположенный между двумя этими фразами, содержит описание оппозиционных пространственных миров, в которых пребывают возлюбленные. На фоне этого противопоставления возникают мотив неразделенной любви, причиной которой являются социальное неравенство: возлюбленный пребывает «в темных углах, в жалких хижинах», возлюбленная царит «в королевских залах». В стихотворении часто выделяются субъективные зоны «я» / «ты». Эмблемой любви служит традиционный образ альбомной поэзии (любовь – неземное чувство). В данном случае этот смысл выражен в следующей поэтической формуле: «мое светлое небо не манит тебя». Тем самым дается понять, что героиня испытывает неземные чувства, в отличие от героя. Таким образом, записи а. Ганзен и Э. Вейнбаум можно рассматривать как диссонирующие варианты в выражении мотива любовного чувства, его финальная строка содержит веру в новую встречу. Мотив ожидания прихода возлюбленного будет доминировать, акцент сделан на временном плане – это долгое ожидание. Но возлюбленный обязательно придет, на это указывают контрастные цвето(свето)обозначения: лирический герой должен преодолеть путь из темных углов к светлому небу. Любовь в контексте этого стихотворения воспринимается как возвышающее чувство.
Любовный мотив продолжает развиваться в записи Михаила Лозинского (Л. 13), написанной на французском языке в форме сонета, посвященного «Мадемуазель Вере Сутугиной». Сонетная форма выбрана не случайно. Во-первых, это строгая поэтическая форма, позволяющая показать мастерство автора, упоминание в последнем имен французских мастеров сонета Ронсара и Эридиа, указывает на поэтическое состязание. Во-вторых, сонет, имеющий адресное посвящение, как в данном случае, призван восхвалять достоинства владелицы альбома.
В сонете Лозинского воспроизводится традиции европейской и азиатской культур. Как элемент античности вводится мотив пира. В данном случае возникает прямая аналогия с жизнью издательства «Всемирная литература»: пир, исполненный гармонией,
…где сходятся
Избранные, чей ум питается лишь красотой,
Не внемля гневному грохоту низменного чрева.
Красота становится главной эстетической категорией этого мира. Помимо внешней красоты воспевается внутренняя красота, вводящая эпический план. Вера Александровна сравнивается с женой Перикла, Аспазией, одной из знаменитых женщин Древней Греции. Постоянный эпитет, которым наделяется героиня, — «лучезарная». Лучезарность героини становится достаточным основанием, чтобы судить о ее красоте. Именно Вера-Аспазия является душой пира избранных, той Прекрасной Дамой, к ногам которой склоняются именные пленники, одним из которых назван Октавио (персонаж комедии испанского драматурга Т. де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость»), другим – китайский писатель Пу-Чи-Фу (настоящее имя – Пу Сун Лин).
И тот, и другой прославились как великие любовники своего времени: европейская любовь – любовь Октавио – пылкая и сияющая; азиатская – любовь Пу-Чи-Фу – «мрачна и скрытна». Однако они оба пленены красотой и умом «лучезарной Аспазии». Важно отметить, что красота – первичное состояние мира, именно красота питает ум и привносит радость в череду унылых дней. Помимо собственно творческого плана в сонете присутствует и второй план, реальный: введенный в текст сонета образ Октавио предполагает упоминание Владимира Пяста, сделавшего перевод комедии де Молина; вымышленный образ Пу-Чи-Фу намекает на китаиста В. М. Алексеева. Таким образом, сюжет сонета развертывается в рамках двойного бытия. Однако двойной план связан не только с поклонниками, но и самой В. А. Сутугиной. Об этом может свидетельствовать пушкинскоеальбомное стихотворение «И. В. Сленину» (1828), в котором, высмеивая модные альбомы, у А. С. Пушкина возникает сравнение владелиц альбома с Аспазией:
Я не люблю альбомов модных:
Их ослепительная смесь
Аспазий наших благородных
Провозглашает только спесь.
Следовательно, «Аспазия» со времен XIX века, является и знакомым именем владелицы альбома, на что намекает Лозинский.
В первом терцете, признавая величие пленников, лирический герой (сам поэт) отмечает, что никто
Не воспел Вашу душу и Ваши волосы в сонете,
Все четырнадцать рифм которого были бы достойны Ваших взглядов.
Соседство в одной строфе «души» и волос символично. Во-первых, в мифологии (в том числе и в славянской) длинные волосы были знаком духовного здоровья. Следовательно, союз «и» подчеркивает не просто единство, но еще и причинно-следственную связь между этими словами. Распущенные волосы указывали на девственность и святость их обладательницы, что явствует из сонетного посвящения. Таким образом, волосы напрямую связаны с индивидуальным духом или жизненной силой человека.
Во-вторых, возможно, это прямая отсылка к сонету Шекспира, воссоздающего портрет Dark Lady. Однако, в отличие от Шекспира, Лозинский выстраивает образный ряд сонета не на отрицании превосходных качеств возлюбленной, а, наоборот, на их утверждении: «Вы, красавица», «И все у Ваших ног». У Шекспира возлюбленная обладает глазами, похожими на звезды, кораллами уст, ее волосы вьются «черной проволокой», также отсутствует и божественный свет на челе. У Лозинского даже четырнадцать рифм сонета поклоняются той, чью красоту они воспевают. Сам поэт, слагающий сонет в честь Прекрасной Дамы, скрывается за псевдонимом «Мишель де Лозински», отводя скромную роль «смиренного» автора. Этот эпитет вписывается в общий мотив поклонения.
Во втором терцете возникает двойственное ощущение: с одной стороны, поэт выражает полное смирение; с другой – ставит себе в заслугу воспевание достоинств предмета своего обожания и выступает как «соперник Ронсара и Эридиа». Немаловажен и тот факт, что, отмечая недостатки своих предшественников, сам поэт тоже не исправляет их. Он так же, как и большинство других поэтов, по традиции, обращается к воспеванию внешнего идеала красоты. Вводя сравнение с Аспазией, поэт тем самым уже указывает на незаурядный ум, образованность и красоту, т. е. на те черты, которыми обладала жена Перикла и которыми обладает Вера Александровна.
Автограф Н. О. Лернера, продолжая тему, начатую М. Лозинским, вводит пушкинские мотивы, что вполне естественно, принимая во внимание род занятий исследователя (Л. 13 об. – Л 14). Текст стихотворения Лернера насыщен пушкинскими реминисценциями. Первая строчка («Мне время тлеть, тебе цвести…») уже является прямой цитатой из стихотворения а. с. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829). В ней можно четко выделить две субъективные сферы («Я»/»ты»), как было и предыдущих текстах, с той лишь разницей, что в данной случае существует отсылка к пратексту, в котором эти пространственно-речевые зоны имеют осбое значение (строе – новое поколение). В случае современном (Лернер – Сутугина) временное соотношение: в 1922 году Лернеру исполнилось 45 лет, Сутугиной – 30. Скорее заданная летмотивом пушкинская строка проецируется на внутренние (душевные) ощущения. Правильность предположения доказывает тот факт, что стихотворение Лернера вступает в диалог не только с пушкинскими произведениями, но и с предшествующим сонетом М. Лозинского. Об этом свидетельствуют начальные строки обоих текстов, описывающих современное существование: «Унылых наших дней…» (у Лозинского), «Влачась в хандре тупой, инертной…» (у Лернера); а также апелляция к Лозинскому во второй части текста.
В основном же поэтика стихотворения Н. Лернера ориентирована на роман в стихах А. с. Пушкина «Евгений Онегин». Изображение образа Веры Александровны в деталях перекликается с образом пушкинской Татьяны Лариной. Эти сходства выявляются по нескольким основаниям. Так, Лернер вслед за Пушкиным обыгрывает имя своей героини: вера- Вера («в доброту лишь веря Веры», «верь, Вера милая»). Другое сходство обнаруживается в разговорном тоне, способах рифмовки, присущих «онегинской строфе». И, наконец, сходство наблюдается в выборе темы и в развитии, подобного рода параллели можно найти в лирических отступлениях, написанных Пушкиным от лица Автора. В частности, это касается фрагмента, посвященного описанию девичьего альбома (гл. IV, XXVII-XXX). У Пушкина он заслуживает определение «великолепный» наряду с мученьем «модных рифмачей». Возможно, запись Лернера продолжает развивать пушкинские образы. Именно на это указывает опыт текстологического сравнения. Особенно ярко сходства видны при сопоставлении IV главы романа в стихах.
У ПУШКИНА У ЛЕРНЕРА
Об альбомах
Вы, украшенные проворно На избалованных листках,
Толстого кистью чудотворной Среди блистательных гостей…
Иль Баратынского пером…
Стихи без меры, по преданью Но снисхождения прошу –
В знак дружбы верной внесены… Своей не позабыл я меры,
…………………………………. И если все-таки пишу,
…………………………………… То в доброту лишь веря Веры.
Как видно, во втором случае Лернер предлагает иное развитеие пушкинской темы. Но и в том, и в другом случае в сознании читающих пушкинские строки возникают как перефраза к имеющимся.
Композиционное построение стиха у Лернера совпадает с XXII строфой IV главы «Евгения Онегина»:
Кого ж любить? Кому же верить …в доброту лишь веря Веры.
Кто не изменит нам один? Кто весел так всегда и мил?
Кто все дела, все речи мерит …Кто так исправен был
Услужливо на наш аршин? В подсчитывании наших строчек?
Кто клеветы на нас не сеет? Кто пошлость ненавидит зло?
Кто нас заботливо лелеет? Кто прям и не играет роли?
Кому порок наш не беда? К кому забавные библо
Кто не наскучит никогда? Несут поклонники на столик?
Призрака суетный искатель, Кто (…)
Трудов напрасно не губя, Порой ругнет вас сгоряча
Достопочтенный мой читатель! Тебя хвалить перо устанет:
Предмет достойный: ничего Тобой заслуженным хвалам
Любезный, верно, нет его. Верь, Вера милая, конца нет!
Таким образом, используя одинаковые снования, заложенные в форме вопроса. Пушкин и Лернер приходят в разным выводам. Так, на первые два вопроса («Кого ж любить? Кому же верить?») Лернер отвечает: Вере, тем самым избирая более достойный предмет для любви и поклонения. В стихотворении также содержится шутливое упоминание Лернера об одном из героев пушкинского романа в стихах – записном поэте Мосье Трике, сочинивший французский сонет в честь мадемуазель Веры Сутугиной. Доминантой в куплетах Трике было прославление красоты Татьяны. К этому же образу красивой девы прибегает и Лозинский.
Следующая запись на испанском языке и перевод выполнен Владимиром Пястом (Л.15). Можно предположить, что автограф Пяста «спровоцирован» (задан) двумя предыдущими стихотворениями. Так, в сонете Лозинского упоминается Октавио, герой комедии Тирса де молина «Севильский обольститель», перевод которого делал Пяст. Его запись представляет фрагмент из этой комедии. Тема, «Севильского обольстителя» вводится, по сути, уже именем Пушкина (образ Дон Гуана из маленькой трагедии «Каменный гость»). В шутливом куплете обыгрывается мотив жизни/смерти. Юмористическая нота противоречит вялому, «посмертному» стиху Лернера. У Пяста герой шутливо сожалеет о долгом сроке жизни, смерть – желанная награда из рук прекрасной Дамы.
Этот же мотив противопоставления смерти чувства радости жизни содержит запись А. А. Смирнова, выполненная на итальянском языке. Первая (стихотворная часть) записи – фрагмент «Вакханической песни» итальянского поэта XV века Лоренцо де Медичи. В этом отрывке присутствует напоминание юноше о старости и дается эпикурейский совет жить беспечно в настоящем и не думать о будущем. Четверостишье заканчивается утверждением:
В день грядущий веры нет.
Однако уже в следующем фрагменте прозаического комментария вводится главный мотив лирики ИТАЛЬЯНСКОЙ ВЕСНЫ – любовь к жизни. С прописных букв Смирнов пишет итальянское выражение PRIMAVERA ITALIANA, в состав которого входит имя владелицы альбома – Вера. В переводе с итальянского PRIMAVERA означает «весна». Таким образом, первоначальное утверждение об отсутствии веры трансформируется в радостное ожидание весны, т.е. в веру в весну, с которой связано будущее. Но радость ожидания смешана с глубокой грустью, на что указывает присутствие образа Смерти:
Как непостоянно в мире Счастье,
Одна лишь Смерть всегда тверда и сурова.
Счастье в мире преходяще. Смерть вечна. И только от человека зависит сохранение радости жизни. Суровости Смерти противостоит постоянное и неиссякаемое чувство, ведущее к истинной молодости духа.
После европейского комплекса текстов, в совокупности представляющих собой некое тематическое единство, выделяется запись Д. Выгодского, сделанная на древнееврейском языке и представляющая собой цитату из Ветхого Завета. Этой записью вводится библейская тема, представляющая размышления о миропорядке: Человек и мир находятся в единстве сущего. Фрагмент Екклесиаста повествует о природном круговороте: заход и восход солнца, рождение и смерть человека, движение ветра, течение рек. Для человека «все вещи» реализуются в труде, в процессе которого око насыщается зрением, а ухо – слушанием. Но тайна мира не подлежит полной разгадке, для человека мудрость мира должна остаться тайной. Выгодский указывает на автора данных слов, это Екклесиаст, сын Давидов. Под переводом Выгодский пишет свое полное имя «Давид», тем самым указывая на преемственность текстов Священного Писания.
Следующие тексты, принадлежащие Б. Лившицу, Ю. Верховскому, Ф. Сологубу продолжают шутливо-игривый тон альбомных записей. Так, запись Юрия Верховского продолжает ряд стихотворений, посвященных самому альбому и осмыслению той роли, которую он играл как элемент литературно-бытовой традиции:
Улыбчиво-гостеприимны
В веках поющие листы,
Легко вмещающие гимны
Столь разноликой красоты.
И соглашает все различья,
Равно торжествен и велик
Священного косноязычья
Единый жреческий язык. (Л.19)
Настроение этого стихотворения совпадает со стихотворением Жуковского, посвященным альбому.
«Романс», сочиненный Лившицем, переосмысливает мотивы и образы классической поэзии XIX века. Нарушением традиции является сам повод к написанию романса, в основе которого лежит не любовное чувство, а метрическая система стихосложения. Об этом свидетельствуют и «правильные» (точные) рифмы: Вера- мера, честь – есть, света – поэта, чар – гонорар, Амур – литература.9
Обращенный к «деве Вере», романс обыгрывает мотив неверия Веры, отрицая тем самым основное качество носительницы этого имени. Поэт призывает деву Веру не верить клятвам верности поэта. В результате выстраивается следующая смысловая цепь: неверие -> вера (Вера) -> верность. Этот же мотив можно наблюдать и в стихотворном альбомном послании М. Ю. Лермонтова, адресованным В. Бухариной («Бухариной», 1831):
Не чудно ли, что зовут вас Вера?
Ужели можно верить вам?
Поверить стоит раз… но что же?
………………………………………….
Закона веры не забудешь
И старовером прослывешь!10
В стихотворении Лившица мотив неверия переплетается с мотивом поэтического творчества. Сам автор подчеркивает два понятия – гонорар и «Всемирная литература»11, рассматривая их как принадлежащие разным сферам жизни (бытовое желание оплаты труда – божественная природа творчества). Поэтическая вариация Б. Лившица отсылает к стихотворению А. с. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1825). Однако у Лившица на смену поэтическому вдохновению приходит «Расчет- и больше ничего!». Финальная строка может быть воспринята в значении расчета как меры стиха (об этом шла речь в первой строфе стихотворения).
Автограф Ф. Сологуба написан на отдельном листе, вклеенным самой Верой Александровной в свой альбом (Л. 20), что указывает на развитие темы предыдущих стихов, в частности «Романса» Лившица (вплоть до совпадения образов и рифм). Фактически в двух строфах стихотворения Ф. Сологуба утверждается роль, которую играла Сутугина в издательстве, — роль секретаря. Даже после закрытия издательства она остается секретарем, в то время как все другие участники поменяли роли («вождь в Литературе» — заведующий издательством А. Н. Тихонов – стал горным инженером).
Последующие три записи, написанные на отдельных листах, также вклеены в альбом хозяйкой, что свидетельствует в пользу тематического, а не хронологического единства. Так, запись т. Л. Щепкиной-Куперник развивает тему секретаря. В первой строфе подробно описывается место работы: Госиздат, размещающийся на шестом этаже напротив Казанского Собора. Отсутствие живых красок искупается обликом самого секретаря (вторая строфа), уподобленному одному из художественных образов итальянского живописца второй половины XV века Андрея дель Верроккьо. Т. А. Кукушкина, проведя тщательное исследование картин этого мастера, пришла к выводу о невозможности установить источник образа. Нам кажется, что данное сравнение («Как на Верроккьевой картине») не имеет в виду какую-то конкретную картину, а общий тон полотен Верроккьо, следовательно, его надо понимать как: образ в духе Верроккьо («Спокойный вид, суровый взгляд…»). Употребление в конце фразы многоточие заканчивает ряд верроккьевских образов. Далее Щепкина-Куперник предлагает новую вариацию развития образа, не свойственную Верроккьо. Таким образом, в фигуре секретаря возникают два плана (внешний вид, взгляд; и внутренний – взгляд таит яд грусти и мечту об Аргентине). Возможно, потребность в аромате вызывает мечту об Аргентине (например, аромат кофе). Таким образом, спокойный вид и суровый взгляд – идеальная «маска» секретаря, соответствующая занимаемой должности; во взгляде таится скрытое романтическое чувство.
Попытка разгадать внутреннюю тайну Веры Александровны предпринята в портретном «Сонете» Федора Сологуба (Л. 22). Уже содержащееся в первой строке обращение «О Вера милая!» указывает на близкие отношения между автором и адресатом. Однако в последующих строках дистанция между ними увеличивается: объект изображения («Вера милая») удаляется, скрываясь за местоимением «она». В первой строфе также вводится и двойной план изображения: образ дан через реалии советской действительности («Зачем ненужный стыд / Ей точно клюквою советской щеки мажет?») и через сравнение с мифологическими образами (одна из Харит).
Композиционное строение сонета Ф. Сологуба подобно сонетам У. Шекспира. Сонеты сближает и общее развитие мысли. Например, в сонете Ф. Сологуба можно увидеть разнообразные вариации шекспировских тем:
ШЕКСПИР СОЛОГУБ
Я полагал: у красоты твоей I строфа
В поддельных красках надобности нет.
Я думал: ты прекрасней и милей
Всего, что может высказать поэт
(Сонет. 83)
Все это так. Но избежит ли грешный В чистилище ль зовет, иль увлекает в ад,
Небесных врат, ведущих в ад кромешный? Или избраннику вещает рай услад
(Сонет 129)
Возлюбленная обладает тайной (хранит знак –надпись), которую может разгадать Бог или поэт. В «Сонете» утверждается связь поэта с божеством. Однако возлюбленная таит этот знак от поэта. В сонете нет прямых указаний, позволяющих разгадать тайну. Но из оброненных «случайных» описаний можно выстроить следующую цепь. Если принять во внимание прием традиционного обыгрывания имени Сутугиной, которое указывает в самом себе на свое значение, то тайной Веры является тайна (символ) веры. Главным качеством носительницы веры у Сологуба оказывается не красота, а правота:
Ее и речь моя в толпу нагих Харит
Харитой новою вмешаться не отважит.
Она не холодна, как девственный гранит,
Когда змея лукавств к ушам ее приляжет…
Змей-искуситель искушает в вере, а именно в ее истинности. Далее в сонете содержится указание на тайный знак, который назван «милым», как и его носительница («Вера милая»). Милый сердцу знак – знак истинной христианской веры. На это указывает последнее двустишие, рисующее модель христианского потустороннего мира (Ад – Чистилище – Рай). Упомянутая «надпись на стене / Великим мастером воздвигнутого храма» указывает, по-видимому, на храм Соломона, а великий строитель здесь — Хирам, или сам Соломон, которого называли Великим Мастером. В свете этой догадки надпись на стене храма – криптограмма, состоящая из солярных символов, показывающих движение Солнца в зодиакальных созвездиях. Принимая во внимание тот факт, что в «Сонете», адресованном Сутугиной, Сологуб выступает от мира поэта, понятно, почему от него охраняется эта тайная надпись, так как его имя, а, вернее псевдоним, несет гибель солнцу (Соло-губ -> солнцегубитель). В поэзии Ф. Сологуба солнце является одним из центральных символов (сборник «Будем как солнце»), поэтому поэт может постичь тайну храмовой надписи, раскрывающей путь восхождения к духовному просветлению.
Следующая запись, сделанная Б. Кушнером, представляет собой вариант «стихотворения на случай» (Л. 24), написанного по поводу опоздания. Бесконечные извинения указывают на отсутствие их окончания: «Письмо пусть будет без конца». Однако и в этой небольшой миниатюре содержится комплимент в адрес хозяйки альбома, высказанный мимоходом («Профиль прелестного лица»). Несдержанность эмоций и чувств, заметных даже в строфике стихотворения Кушнера, приобретает ясность и четкость в следующей за ним записи А. Волынского (Л. 29), в которой автор развивает мысль о тайне жизни, высказанную ранее (Л, 8). В противоположность несдержанным «пластическим знакам» Кушнера (торопился, бежал), Волынский говорит о скромности и сдержанности чувств, позволяющих с античной простотой проникнуть в образ Веры Александровны, относятся платок, оставленный на стуле, и профиль лица самой владелицы альбома.
Запись на немецком языке Виктора Маркизетти – один из афоризмов немецкого писателя Якоба Вассермана (Л. 29) – продолжает развивать тему судьбы:
Судьба народа, как судьба отдельного человека
Определяется его характером.
Предыдущие записи, представляющие собой по большей части комплиментарные стихотворения, подчеркивали положительные качества характера владелицы (доброта, сочувствие, правдивость и т.п.). Афоризм, предложенный Маркизетти в виде альбомной надписи, приводит к целой череде крылатых изречений, как переводных, так и собственно авторских, разместившихся на трех последующих страницах альбома (Л. 29 – 31). Необходимо отметить, что эти записи не что иное, как коллаж, состоящий из разрозненных записок, вклеенных владелицей в альбом (часто и произвольном хронологическом порядке). Объединяющим для данной подборки надписей является мотив доброго дела, доброты, как вариант – дружбы. Запись общественного деятеля А. Ф. Кони представляет собой цитату из сочинений французского дипломата Ж. де Местра:
Человек должен действовать, как будто он может все,
А смириться, как будто он ничего не может. (Л. 29)
Утверждение действия (труда), а не смирения, порождает следующую крылатую фразу Н. Гумилева: «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным» (Л. 29). Последующие записи могут рассматриваться как единичные, индивидуальные реплики в контексте общего диалога. В ответ на фрагмент сонета «Виктору Гюго» французского поэта А. де Мюссе о быстротечности жизни и постоянства дружбы, которая вдыхает новые силы и противостоит смерти, С. М. Зарудным предложена цитата из произведения из другого француза, О. де Бальзака: «Черт возьми! В конце концов всем жить надо!» (Л. 30). Таким образом, французские записи составляют своего рода сюжетно-смысловой диптих. Примечательно, что последнее слово в цитате из Бальзака «vive!», указывающее на гимнотическое воспевание жизни, прямо соотносится с прозвищем Веры Александровны – Вива. Это фонетически маркированное французское слово вновь делает центром записи фигуру Сутугиной.
Однако следующую группу альбомных надписей отличает не только шутливый тон, но и игровой характер. Практически каждая из них представляет собой скрытую шараду.
Так, первой в этом ряду помещена надпись к. Чуковского, обыгрывающая традиционный для данного альбома мотив неверия Веры, однако в самой записи этот мотив приобретает иное звучание:
Верочка! Люблю Вас
Безумно. Не верьте
Сильверсвану, он
Интриган.12 (Л. 30 об.)
Внимательно присмотревшись к словам, выстраивается слудующая смысловая цепь. Вера должна не верить Сильверсвану. Однако уже в самой фамилии заложена вера, т.е. противоположное чувство. Следовательно, данное предостережение напрасно. В игровой записи В. Инсарской (Л. 30 об.) восстанавливается латинское изречение «Cognoscere ignoscere» («Все понять, все простить»), противоречащее тексту самой записи: «А Вы так часто на меня сердитесь».
Клатвы в любви также получают двойную вариацию: абсолютные (запись Е. Струковой : «Вивинька, милая, люблю очень» — Л. 30 об.) или условные (к ним относится запись м. а. Сапицкой: «Верочка, люблю Вас, когда Вы ласковенькая, а злючку нет» — Л. 31 об). Последний вариант альбомной надписи дает иное развитие образа владелицы. Однако подобного рода записи единичны и являются исключением из общего восторженного тона голосов, свидетельством чему служит шутливо-пародийная запись В. Зоргенфрея : «А я всякую – и такую и этакую» (Л. 31 об.). Далее автор обыгрывает само понятие любви, ведь любить можно не только человека, но и многое другое, поэтому запись Зоргенфрея имеет имеет следующее продолжение:
А я всякую – и такую и этакую.
Но все-таки шоколад – больше. (Л. 31 об.)
Предпочтение Веры Александровны шоколаду обращает к известному шуточному посланию а. с. Пушкина, написанному в альбом а. п. Керн (1828):
Мне изюм
Нейдет на ум,
Цуккерброд
Не лезет в рот,
Пастила не хороша
Без тебя, моя душа.
Однако, если в стихотворении Пушкина возлюбленная не шла ни в какое сравнение с кондитерскими изделиями (изюм, цуккерброд, пастила), то в первой половине XX века в альбомных посланиях такого рода наметилась прямо противоположная традиция. Так, например, В. В. Головин и в. Ф. Лурье приводят следующий вариант, наглядно демонстрирующий это изменение:
Люблю я лук,
Люблю я квас,
Но пуще всех
Люблю я вас. (1937)
Вместо возвышенных, приятных («сладких») сравнений приводятся сниженные бытовые подробности (лук, квас). В этом ряду «любовей» возлюбленной отводится последнее место, что явствует из композиции, хотя по смыслу утверждается обратное.
В надписи Зоргенфрея, наоборот, все акценты смещены: любовь к шоколаду оказывается сильнее. Но и на этом запись не кончается. Поскольку в 20-х годах XX века шоколад был очень большой редкостью, Зоргенфрей начинает на страницах альбома «продовольственную» переписку: «Кто знает, где продается шоколад, пусть напишет здесь». Судя по дальнейшим записям желающих открыть «тайну» нахождения шоколада не оказалось. И дело было не только в редкости данного продукта: с лета 1918 года в Петрограде вышел приказ о запрещении продажи шоколада наряду с другими сладостями; лица, ведущие подобную торговлю, привлекались к судебной ответственности. Таким образом, в записке Зоргенфрея шутливый план сочетается с трагическими обстоятельствами действительности жизни.
Запись Ф. Сологуба (Л. 31) также исполнена шутливо-серьезного содержания, хотя источник этого настроения связан с другой реалией, на что указывает дата – 2 апреля, прокомментированная следующим образом: («1 апреля еще не было»). Здесь обыгран милый обычай разыгрывать всех в день 1 апреля. Поэтому, с одной стороны, Сологуб настаивает на серьезность своей записи, с другой – сама запись носит игровой характер:
По очаровательной доброте Вера Александровна
Вторая во Всем Мире.
Комизм этой фразы связан с числительным «вторая», которое «снижает» достоинства владелицы.
За каламбурно-шутливыми текстами помещен французский триптих, авторство которого принадлежит Б. Сильверсвану, неизвестному лицу <Maggi> и В. П. Измалковой (из А. де Мюссе).
I Помни, когда под хладной землей
Мое разбитое сердце будет спать вечным сном.
II Величие – в одном только безмолвии.
Все остальное – бессилие.
III И память, может быть, о счастье реальней,
Чем самый счастья миг.
Разрозненные внешне, эти фразы представляют собой некие афоризмы на заданную тему. Следующие друг за другом, они по-разному варьируют тему жизни и смерти, центральным оказывается мотив памяти (помни -> величие — > память). Мотив жизни как творчества развивается в следующей записи анны Ганзен (Л. 31 об.), цитирующей стихотворение Г. Ибсена: жить – значит творить. Собственно, запись Анны Ганзен – последняя, относящаяся к периоду «жизни» и работы издательства «Всемирная литература». Последующие записи сделаны уже 1930-1960 годы. Мы выбрали из них несколько, которые тематически вписываются в альбомную традицию 1920-х годов и принадлежат сотрудникам издательства. Таких записей четыре, они сделаны Д. И. Выгодским и Т. Е. Левберг, две последние не атрибутированы, но по духу связаны с предшествующими записями.
Стихотворению Д. Выгодского предшествуют два эпиграфа, представляющие собой две поэтические цитаты (первая из стихотворения А. С. Пушкина «Буря», 1825; вторая – из стихотворения В. И. Иванова «Аттика и Галилея»). Соединительные в эпиграфе две поэтические традиции воплощаются и в самом стихотворении. Надо отметить, что пушкинская цитата неточная, но она продолжает развивать общий мотив веры/неверия («Не верь мне, дева на скале…»), а также мотив пира-жизни («Невиданный здесь правит пир»). Оба мотива органично вписываются в общую систему романтических и неоромантических мотивов, ведущих свое начало от античной культурной традиции. Античный мир прекрасен, это жизненный пир («Магнолии, платаны, пальмы, лавры»). Однако мир Эллады, Причерноморья, (Эвксинский понт), приметой мира современного становится черная полоса гудронированной дороги.
Вере Александровне отводится роль девы – богини любви (возможно, речь идет об Афродите). В противоположность пиру жизни возникает пир смерти, главной гостьей которого оказывается жизнь (Вива):
И мертвый пир, о Вива, оживи.
Таким образом, и в последних записях образ владелицы совпадает с первоначальными представлениями о деве –хранительнице, жизнедарительнице.
Вторая запись, сделанная в 1928 году (Л. 42) также варьирует мотив жизни и смерти в природе (могила, мертвая вода, шум жизни), которому противостоит живая человеческая душа. Поэтика третьего стихотворения ориентирована на стихотворение Зинаиды Гиппиус «Все кругом» и предваряется следующей оценкой: «свободная, наглая и неудачная кража из З. Гиппиус». При сопоставлении этих стихотворений вырисовывается следующая картина:
З. Гиппиус «Все кругом» Альбомное стихотворение «Вера»
Страшное, грубое, липкое, грязное, Маленькая, грустная,
Жестко тупое, всегда безобразное, Носом <ноквинойная>
Медленно рвущее, мелко нечестное, Милая, славная,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное, Черноглазая.
Явно довольное, тайно блудливое, Часто ленивая, редко примерная,
Плоско смешное и тайно трусливое, Изредка пьяная, буйно-капризная,
Вязко, болотно и тинно застойное, Вечно прохладная, лунная, звездная,
Жизни и смерти равно недостойное Тайная, скрытная и ненасытная.
И т.п. Как не любить ее, ласково-нежную,
(1904) Дивную, тайную, властную, резкую?
Как видно из данного альбомного стихотворения, характеристики, данные Вере Александровне, противоречивы. В третьей строке повторяется наиболее частотный по другим записям эпитет – «милая» . В стихотворении сочетаются как внешние детали (маленький рост, черные глаза), так и внутренние (черты характера). Дважды повторен эпитет «тайная». Несмотря на противоречивые описания, финальный риторический вопрос утверждает всеобщую любовь.
Следующая запись неизвестного лица на татрском языке из стихотврения Габдуллы Тукая, продолжает развивать образы предыдущего текста:
Чем темнее ночь,
Тем светлее горит звезда.
Чем я становлюсь несчастнее,
Тем чаще вспоминаю Бога.
Важно отметить, что в подлинной цитате у Тукая звезды упоминаются во множественном числе. Появившееся в записи единственное число в данной форме может прямо указывать на Сутугину (ср. определение «звездная») из предыдущего текста. В альбомных записях XIX века сравнение девы со звездой, как и с ангелом, было традиционным.
В общем контексте альбомных записей особый интерес вызывает последняя, сделанная самой владелицей на обложке альбомной тетради. На немецком языке вписан следующий текст:
Юноша устремляется в океан на корабле с тысячью мачт,
Старик тихо движется на спасительной лодке в гавань.
Эта запись сделана Сутугиной в 1967 году за два года до смерти и отражает жизненный путь человека. Приписка карандашом на русском языке:
Так себе – я написала,
Но вырвать нельзя – обложка, —
Вводит мотив неизбежности. Фразу можно воспринять как постскриптум к самому немецкому изречениею. Первая часть русской фразы двусмысленная: с одной стороны, в ней содержится оценочное значение записи; с другой – указание на себя как на адресата записи (так себе). В контексте последних записей мотив жизни и смерти приобретает особое значение, он становится частью воспоминаний о прошлых днях.
Глава II.
Альбом Р. В. Руры как образец «тщеславного» альбома
Владелицей второго альбома13, созданного в рамках издательства «Всемирная литература», была роза (Розалия) Васильевна Рура, которая заведовала издательским буфетом с осени 1919 года.
Примечательно, что во всех мемуарных записях Р. В. Рура фигурирует как достопримечательность издательства. В произведениях «домашней» литературы ее образ выведен с шутливо-ироничной интонацией, оправленной в серьезную форму. С одной стороны, образ буфетчицы «ничтожен» по своему подчиненному положению в издательстве. Так, например, рождественской «Контате» (1923) М. А. Кузмина она даже не упоминается среди сотрудников. Но, с другой стороны, Р. В. Рура играла в издательстве главную роль, так как снабжала литераторов продовольствием. Такое двойственное положение нашло отражение практически во всех записях. В шуточных частушках имя Руры упомянуто дважды. Первая частушка характеризует бедственное положение дел в издательстве:
Скоро станет вся земля,
Горой лысою,
Роза скрылась с корабля
Первою крысою.
Здесь Розе Васильевне отводится роль вестника приближающейся беды. Вторая частушка, хотя и в шуточной форме, еще острее это положение подчеркивает:
Нет у Розы папирос
И для Шкловского,
Ах, остался только нос
У Чуковского.
В этой частушке подчеркивается особое отношение Розы Васильевны к разным сотрудникам издательства. Этот факт – отсутствие папирос даже для Шкловского – свидетельствует о «черных» для издательства днях.
В стихотворении пушкиниста Н. Лернера, записанном в альбом Веры Александровны Сутугиной в 1922 году (Л. 13 –об.14) содержится упоминание и о Розе Васильевне Руре. Шутливый тон стихотворения предполагает комичное развитие образа, который вводится в текст стихотворения, чтобы оттенить достоинства Сутугиной:
Кто жалованья все спускал
За карамели толстой розе?
В этом же контексте можно рассмотреть четверостишие М. а. Кузмина, записанное в альбом Д. С. Левина:
Без топлива терпел морозы,
Без света был не мыт, не брит,
И даже у почтенной Розы
Имел лишь маленький кредит.
Эпитет «почтенная» становится устойчивой характеристикой Р. Руры на протяжении всего времени существования издательства. Достаточно сравнить описания, данные «всемирными литераторами», Розе Васильевне.
1) «Существо неопределенного возраста и необъятных размеров, закутанная в добрый десяток платков, завязанных толстым узлом на пояснице, седая и краснеющая, торжественно восседала она за небольшим столиком, на котором были соблазнительно расположены папиросы, мелкая галантерея и немудреные сладости той поры» (Вс. Рождественский).14
2) «Роза Васильевна стала у нас учреждением – она сидит в верхней прихожей, у кабинета Тихонова – разложив на столе сторублевые коврижки, сторублевые карамельки – и все профессора и поэты здороваются с ней за руку, с каждым у нее своя интонация, свои счеты» (К. И. Чуковский).15
И в том, и в другом фрагменте роза Васильевна описывается как достопримечательность издательства. Эти дневниковые записи представляют собой полную противоположность альбомным текстам, что создает комический эффект. Двуплановое видение образа хозяйки альбома предполагает наличие гротескно-возвышенных и предельно сниженных характеристик. Промежуточное положение Руры в издательстве – сидит в прихожей, у кабинета Тихонова – предопределило пороговую ситуацию в восприятии ее образа.
Записи, включенные в альбом Р. В. Руры, представляют собой стилизованную шуточную историю «Всемирной литературы». О том, что ее альбом пользовался популярностью и стал заметным фактом в истории издательства, свидетельствует эпизод чтения К. и. Чуковским на рождественском вечере 1922 года альбома Руры.
То, что Роза Васильевна Рура начала вести альбом, было продиктовано данью моде, а не внутренней потребностью. Интерес к творческой личности был продиктован, прежде всего тщеславием. В альбоме Руры есть даже подпись организатора издательства «Всемирная литература» Максима Горького.
Внешне альбом Руры выглядит непритязательно по сравнению с альбомами других сотрудников издательства. Он представляет собой, согласно классификации альбомов, предложенной вначале XIX века П. Л. Яковлевым, вариант тщеславного альбома. По внешнему виду – простой переплет, грубые листы желтой бумаги, жирные пятна, прямо указывающие на род занятий владелицы, — это пародия на сам жанр альбома. Если вспомнить, как трепетно относились барышни в XIX веке к своим альбомам (как правило, альбом имел переплет или был обернут веленевой бумажкой).
Еще одним принципиальным отличием альбома Руры можно считать его фрагментарность: записи в нем ведутся немногим больше года (начат альбом 1 ноября 1920 года, последняя запись сделана 18 января 1921 года). По традиции, первым в ряду автографов стоит автограф владелицы.
О практичности Розы Васильевны в издательстве ходили легенды. С альбомом также была связана материальная выгода. Г. Иванов в своих воспоминаниях приводит следующую фразу Розы Васильевны, которая как нельзя лучше иллюстрирует ее взгляды на альбом: «Что вы думаете, через что лет мой альбом будет стоить огромные деньги».16 До 1966 года альбом Р. Руры хранился у ее сына, а опубликован только в 2002 году.
Часто записи, сделанные в альбоме, написаны по заданию владелицы. В «Комментарии» к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина В. В. Набоков приводит известную цитату из «Дневника» В. Скотта о том, что дамский альбом является самой назойливой формой попрошайничества. Альбомный заказ, в частности, заметен в стихотворениях, носящих комплиментарный характер. Так, например, об этой особенности Руры Г. Иванов писал: «Роза была требовательна, любила мадригалы галантного стиля».17
Мадригал – один из наиболее традиционных жанров альбомной поэзии XIX века. В альбоме Руры он становится ведущим поэтическим жанром.
В отличие от альбома Сутугиной, в данном альбоме присутствуют исключительно текстовые записи, и только на последних страницах появляются рисунки не установленных авторов. Четыре рисунка, завершающие альбом, выполнены в виде портретных набросков. Из них наиболее интересен третий рисунок, изображающий грубоватое мужское лицо с полустертой надписью, сопровождающей данный рисунок: «Хорошенькая Рура». В соединении с рисунком данный текст носит эпиграмматический характер. Набросок вместе с надписью являет образ андрогинного героя, несущего мужские и женские начала: грубоватое мужское лицо и роскошное имя Роза.
А. Блок с обращения к Розе начинает свое стихотворение «Стих о предметах первой необходимости» (1919): «Нет, клянусь, довольно Роза…». Уже первая строфа, задающая мотив клятвы, иронично обыгрывает, травестируя, сюжет обета рыцаря, данного Прекрасной Даме. Не случайно в этом стихотворении небесный образ сведен к земному воплощению. Это одно из первых стихотворений, в котором фигурирует образ Розы. Здесь же впервые появляются устойчивые рифмы: Роза – проза, роза – мороза. В стихотворении можно отметить сосуществование разных поэтических традиций: так, в частности, сюжет блоковской поэмы «Соловьиный сад» (1915) переплетается с образами из стихотворения А. С. Пушкина «Соловей и роза» (1827). У Пушкина роза становится эмблемой холодной красавицы, оставляющей без внимания любовные песни соловья – поэта:
Но роза милая не чувствует, не внемлет,
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
А. Блок шутливо обыгрывает имя Розы, напрямую сравнивая, а затем и прямо заменяя ее цветком. Так, цветы роз оплетают ограду «соловьиного сада», выполняя роль стражей («колючие розы»), шипы которых цепляются за платье. «Утонувшая в розах стена» — граница лучшего мира, в который хочет попасть лирический герой. Сюжет поэмы Блок проецирует на историю издательства «Всемирная литература» (продовольственные походы). Теперь герой по-другому оценивает свои мечты:
Вялой прозой стала роза,
Соловьиный сад поблек…
На смену «громкому» (роскошному) имени цветка приходит «негромкое» — роза превращается в капусту, более необходимую на данный момент: поход влюбленного к розовым вратам соловьиного сада превращается в поход голодного за «прекрасной незнакомкой» — капустой.
В воспоминаниях Ирины Одоевцевой («На берегах Невы») также выстраивается цепь ассоциаций-рифм: Роза – мороза — угроза. Образ Руры возникает в литературных мемуарах Одоевцевой в связи с «историей» Мандельштама. Одоевцева подробно описывает случай написания несостоявшегося альбомного стихотворения. В передаче мемуаристки сама Роза Васильевна спровоцировала Мандельштама на столь дерзостный «стишок», напомнив ему о его долге. Поэтому запись Мандельштама можно отнести к числу альбомных афоризмов, составляющих особый раздел надписей «на случай».
Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч,
Помни, что двадцать одну мог тебе задолжать я.
Комментарий Одоевцевой сводится к следующему: «Роза, надев очки, с улыбкой нагнулась над альбомом, разбирая «хорошенький стишок», но вдруг побагровела, и грудь ее стала биться, как волны о берег, о прилавок, заставляя звенеть банки и подпрыгивать сверткию Она дрожащей рукой вырвала «гнусную страницу» и, скомкав, бросила ее в лицо Мандельштама с криком:
— Отдайте мне деньги! Сейчас же, слышите, отдайте! С того дня она и начала преследовать его».18
Рассказанная история ссоры Мандельштама и Руры по форме своей близка к анекдоту. Брошенный в лицо Мандельштамам листок аналогичен жесту, вызывающего противника на дуэль. Не случайно, что после выходки Мандельштама он становится главным врагом розы Руры. В описании Розы Васильевны Одоевцева использует поэтическое сравнение «в духе» романтизма (грудь бьется, как волны о берег), однако сам предмет не возвышается до романтического образа, а, наоборот, снижается за счет второго сравнения, образующего с первым единый ряд (звон банок, дрожание свертков). Фраза, произнесенная Рурой («Отдайте мне мои деньги!»), становится ключевой в ее общении с Мандельштамом.
Одоевцева дает Руре следующее описание: «Толстая, старая, похожая на усатую жабу, она безбожно обвешивала, обсчитывала, но зато никого не торопила с уплатой долга. Никого, кроме Мандельштама. При виде его она начинала гудеть густым, грохочущим басом (…).
Эта роза была одарена не только коммерческими способностями, но умна и дальновидна. Она умела извлекать из своего привилегированного положения «всемирной маркитанки» всяческие выгоды. Так, она завела альбом в кожаном переплете, куда заставляла всех своих клиентов-писателей написать ей «какой-нибудь хорошенький стишок на память». И все со смехом соглашались и превозносили розу в стихах и прозе. Роза благодарила и любезно объясняла:
— Ох, даже и подумать страшно, сколько мой альбом будет стоить, когда вы все, с позволения сказать, перемрете, я его завещаю своему внуку.
Альбом этот, если он сохранился, действительно представляет собой большую ценность. Кого в нем только нет. И Сологуб, и Блок, и Гумилев, и Кузмин, и Ремизов, и Замятин. Возможно, что благодаря ему создастся целая легенда о прекрасной Розе. И будущие литературоведы будут гадать, кто же была эта восхитительная красавица, воспетая столькими поэтами и прозаиками».19
Характеристики, данные Одоевцевой, объясняют несоответствие альбомных записей реальному положению вещей. В первой части воспоминаний Одоевцева сравнивает Руру с жабой. Учитывая ее имя, вспоминается известный сюжет о жабе и розе. Поэтому, как нам кажется, литературные воспоминания отразили первый (реальный, и, как следствие, прозаический) план, а альбомные стихи второй (поэтический). Однако, несмотря на разность жанров, и в том, и в другом присутствует ирония, порой переходящая в сатиру и даже в гротеск. Второе ценное наблюдение, содержащееся в мемуарах Одоевцевой, указывает на обязательность создания комплиментарных текстов, от качества которых напрямую зависели экономические отношения. Вследствие этого неудивительно, что в большинстве записей собственно поэтический план соседствует с бытовым.
Далее Одоевцева упоминает, что ей неизвестна дальнейшая судьба альбома. Как показало время, судьбу альбома Руры удалось проследить. Предположения же одоевцевой о создании легенды не подтвердились в полной мере, поскольку в альбоме наряду с «возвышающими» записями соседствуют откровенно сниженные тексты, позволяющие профанировать псевдосакральный образ.
Так, например, уже в первой записи, сделанной А. Волынским, содержится резкое смысловое противоречие: «Чужих автографов не ценю, свои же собственные заношу в альбом без удовольствия». (Л.2)
Эта запись становится своеобразным лейтмотивом к восприятию всех остальных записей, поскольку она обесценивает (как в прямом, принимая во внимание высказывания владелицы о цене альбома, так и в переносном смысле) другие автографы и указывает на принципиальное действие (запись сделана не по доброй воле, поэтому не вызывает у пишущего удовольствия). Волынский охарактеризован Сутугиной как очень умный человек, знающий несколько языков и могущий говорить на самые разнообразные темы из самых разных областей. Достаточно вспомнить его запись, сделанную на греческом языке, в альбоме Сутугиной. В данном же случае запись сделана на русском языке очень лаконично.
Практически альбомы Сутугиной и Руры ведутся параллельно, на что указывают автографы, принадлежащие сотрудникам «Всемирной литературы». Однако записи, сделанные в их альбомах, контрастируют друг с другом, отличаясь как по форме, так и по содержанию. Наибольшее количество записей сделано в альбоме Руры в ноябре 1920 года. Практически каждый день приносил ей чей-нибудь новый автограф. Неудивительно поэтому, что многие записи дублируют друг другу. Сразу же бросается в глаза еще одно существенное отличие между альбомами: в альбоме В. А. Сутугиной присутствуют несколько автографов одного и того же лица, в то время как в альбоме Руры автографы единичны. Исключение представляет курьер издательства «Всемирная литература» М. Я. Зинин, сделавший в альбоме две записи, следующие друг за другом.
Единичность автографов полностью соответствует записи А. Волынского, открывающей альбом , и свидетельствует о сознательной установке владелицы – заполучить как можно больше автографов известных людей. Так, только за ноябрь 1920 года в альбом Руры сделали 26 сотрудников издательства. Подобный интерес владелицы свидетельствует о ее тщеславных стремлениях.
За исключением четырех записей все остальные сделаны в альбоме Руры на русском языке. В альбоме Сутугиной дело обстояло иначе. Доминанта русскоязычных записей в альбоме Руры, свидетельствует, прежде всего, о культуре самой Розы Васильевны. Присутствующие в альбоме иноязычные надписи не сопровождаются переводом. Подобный факт вызывает недоумение, так как Рура не владела ни одним из тех языков, на которых сделаны записи, вследствие чего их смысл, вероятнее всего, должен был быть ей неясен. При детальном анализе этих записей вырисовывается следующая картина: указанные записи, в противоположность остальным, лишены комплиментарного характера. В них присутствует ироничное начало.
Так, вторая запись в альбоме принадлежит И. Ю. Крачковскому и сделана на арабском языке. В переводе А. Долининой фраза звучит следующим образом:
Дела оцениваются по намерениям: каждому человеку
Воздается согласно тому, что он намеревался –
Правду сказал посланник Бога Великого.
Это изречение из хадисов пророка Мухаммеда нарушает единый альбомный сюжет, сводящийся к воспеванию Розы. Данную запись можно рассматривать с двух разных точек зрения. Во-первых, ее можно воспринимать как суждение по поводу предыдущего автографа А. Волынского. В данном контексте фраза получает философско-обобщенный смысл оценки деяния. Во-вторых, принимая во внимание тот факт, что запись сделана в альбом Руры, можно логически отнести ее смысл к самой розе Васильевне. В этом случае фраза приобретает сатирический оттенок, поскольку намерения и дела буфетчицы противоречивы. В данном случае запись представляет собой напоминание о том, что ждет владелицу альбома после смерти.
Во многих мемуарных записях нашли отражения эпизоды профессиональной деятельности Розы Васильевны. Наиболее интересным в них оказывается способ предложения товара. Так, одоевцева отмечает следующую особенность поведения Руры по отношению к Кузмину: «Какую я вам коврижку достала, Михаил Алексеевич! Медовую. Пальчики оближете. Никому другому не уступлю. Вам одному. Себе в убыток. Верьте».20
Последнее слово в устах розы Васильевны становится устойчивой формулой ее коммерческого успеха. Таким образом, с этой «героиней» также, как и с Верой Александровной Сутугиной, оказывается непосредственно связан амбивалентный мотив веры/неверия.
Следующая иноязычная надпись, сделанная на итальянском языке, принадлежит перу Лозинского, который вписывает в альбом Руры фрагмент стихотворения португальского поэта Л. Де Камоэнса. На первый взгляд, выбранный фрагмент вписывается в общий поток комплиментарных стихотворений:
Роза – царица цветов. Наша Роза – царица роз.
Розы по весне
Не встречал нигде я
Краше и милее
И дороже мне.
Первая строчка, содержащее тезисное утверждение, принадлежит самому Лозинскому и представляет собой некий силлогизм. Согласно правилам составления силлогизма, из двух непротиворечивых суждений рождается третье. Разбирая данную пару, можно сделать вывод:
Роза – царица цветов -> следовательно, Наша Роза – цветок.
Наша Роза – царица роз.
Таким образом, стихотворение Камоэнса является третьей частью данного силлогического построения, в котором речь идет о розе как о цветке. Однако сам фрагмент позволяет сделать обратный вывод, если рассматривать его как единичный текст.
На основании анализа данной записи можно сделать вывод о том, что она носит игровой характер и становится частью альбомной игры. Данный текст можно отнести к «обманным» записям, которые содержат в себе два смысловых плана. Первый план восприятия данного записи включает ее в ряд альбомных комплиментов, второй план иронично отвергает первый, так, например, похвалы красоте относятся уже не к хозяйке альбома, а к садовому цветку. Об этом свидетельствует и первоисточник: стихотворение Камоэнса обращено к возлюбленной и называется «Барбаре – пленнице, любимой мною в Индии». Выбранный Лозинским фрагмент составляет часть описания сада и наслаждения лирического героя прекрасным цветком, черты которого переносятся на возлюбленную. В случае с записью Лозинского любовный контекст в ней изначально отсутствует. В самой записи происходит еще одна любопытная подмена: слово роза, встречаемое в автографе три раза, пишется по-разному. Такое написание (rosa – Rosa – rosa) позволяет судить о правильности наших выводов: в первом и последнем случает речь идет о цветке и только во втором – о носительнице имени Роза. Таким образом, ирония входит в саму форму записи.
Третий автограф, выполненный на немецком языке заведующим библиотекой издательства «Всемирная литература» и переводчиком Виктором Александровичем Маркизетти, сводится к краткому афоризму: «Путь к сердцу идет через желудок…». Во многом эта запись продиктована предшествующими комплиментарными стихотворениями, в которых перечисляются различные сладости в виде медовых леденцов, пряников, карамели, входящими в торговый ассортимент Розы Васильевны. В этом случае запись Маркизетти приводит неполный вариант этой крылатой фразы, которая в полном варианте говорит о мужском сердце.
Этот автограф также включается в игровое пространство альбома. Напоминая читателям альбома, что «путь к сердцу мужчины лежит через желудок», запись Маркизетти намекает на развитие любовного сюжета, поскольку запись, сделанная мужчиной, адресована женщине. Однако, принимая во внимание тот бесспорный факт, что никаких любовных отношений между Маркизетти и Рурой не было и быть не могло, фраза рассматривается в принципиально тном смысловом контексте. Ирония по поводу абсурдности любовных отношений переходит в серьезное утверждение о практической пользе буфетчицы. В этом случае автограф Маркизетти является напоминанием розе Васильевне о том, что она является источником питания для сотрудников «Всемирной литературы», и, следовательно, для самого автора. Таким образом, запись Маркизетти, фиксируя реальное положение дел, намекала посредством использования многоточия, на большее.
Последний автограф на иностранном языке, помещенный в альбоме Руры (Л. 8), выполнен исследователем иранской литературы Евгением Бертельсом. Стихотворение написано на персидском языке и в подстрочном переводе, выполненном Е. к. Ивановой, звучит следующим образом:
Колесо эпохи Творец создал для твоей бедности,
Так как в том мире запрещено продавать и покупать.
О ты, щедрая к недостойным, которые пройдут над Плеядами.
Ведь такая Роза появилась в горькой реки.
И в данном тексте , как и в предыдущих, высокое начало соединяется с обыденным. В своей записи Бертельс обращается к напоминанию о загробном («том») мире, в котором профессиональной деятельности розы Васильевны не будет места.
В первой строке упоминается один из главных символов космической движущей силы – колесо эпохи, правящее временем и , как следствие этого, судьбой человека. Колесо в индуизме, принимая внимание оригинал, связано с тремя циклами проявлений – рождением, смертью и возрождением. В данном случае первый цикл указывает на появление (рождение) Розы; второй – на ее бедность, которую принесет смерть; третий объясняет причину бедности, но ничего не говорит о возрождении Розы, напротив, будущее связывается не с Розой, а с теми «недостойными», к которым она щедра. Именно эти недостойные пройдут над созвездием Плеяд. Предлог «над» в этой записи указывает на райскую сферу, которая напрямую связана с третьим циклическим проявлением – возрождением души. В этой же надписи также можно проследить разграничение между «сферами» влияния: недостойным после смерти суждено проходить над плеядами, в то время как Розе – пребывать у горькой реки. Т. А. Кукушкина при комментировании записи Бертельса рассматривает выражение «горькая река» как метафорическое обозначение эпохи и как прямую аллюзию на организатора издательства «Всемирная литература» Максима Горького. Возможно, что первое предположение может объяснить выбор псевдонима Алексеем Максимовичем Пешковым.
Однако образ горькой реки из четвертого стиха можно трактовать шире как символ уходящего времени и жизни. Одна из рек, протекающих в подземном мире (аналог древнегреческого Стикса) была горькой. 21 Можно отметить, что в записи Бертельса органично соединяются восточные и западные традиции, на что указывает следующее совпадение: Колесо эпохи – роза, которая на Западе является колесообразным символом духовного развития, или космического колеса.
Большое место в альбоме отводится обыгрыванию имени владелицы. Необходимо отметить тот факт, что Р. В. Рура носила «двойное» имя, что также нашло отражение на страницах альбома. Полное имя Руры – Розалия Васильевна, однако она сама, а вслед заней и остальные, стали называть ее розой. Таким образом, имя Роза является уменьшительным вариантом полного имени. Однако именно Роза доминирует в альбомных записях, вытесняя Розалию. Такое положение можно объяснить следующими причинами. Во-первых, с розой связан большой круг символических значений; во-вторых, роза является одним из традиционных поэтических образов, как в русской, так и в мировой литературе; в –третьих, роза является амбивалентным образом-символом, соединяющим в себе разные начала; в-четвертых, роза вступает в традиционные рифмованные пары, чего нельзя сказать о Розалии.
Попробуем рассмотреть все варианты именных надписей в рамках предложенной схемы.
Полный вариант имени – Роза Васильевна – имеется в записях Е. Браудо (Л.2), Н. Оцупа (Л.2), Б. Рапгора (Л. 3), С. Нельдихена (Л. 3 об.), Ф. Сологуба (Л. 4), Б. Эйхенбаума (Л. 4 об.), В. Алексеева (Л. 7 об.), А. Блока (Л. 7 об.), Б. Сильверсвана (Л. 8 об.), Е. Замятина (Л. 11), З. Гржебина (Л. 12), Д. Назарова (Л. 12), В других записях, сделанных Вс. Рождественским (Л. 3 об.), К Чуковским (Л. 3 об), Г. Лозинским (Л. 5 об.), А. Ганзен (Л. 5 об.), Дм, Крючковым (Л. 6), Н. Гумилевым (Л. 6), В. Коломийцовым (Л. 7), Г. Ивановым (Л. 8), Н. Лернером (Л. 10), обыгрывается имя Роза. Исключения составляют несколько записей, на которых необходимо остановить внимание.
Так, единственный раз в автографе, принадлежащем Юлии Данзас, содержится вариант имени – Розалия Васильевна. Возможно, полный вариант имени Руры возник по аналогии с предшествующей записью андрея Левинсона, представляющей собой каламбурное обыгрывание имени «Розалия»:
Все хвалят Вас, Розалия, |Роз [алиja]
Что нам Вы друг, сознал и я. | co [aлиja]
И если б мог в журнале я | в журн [ал и ja]
Вас описать, розалия! (Л.9) | Роз [алиja]
Как видно из последних слов (или фрагментов).ю фонетически они звучат одинаково: подбирая однозвучные, автор добивается омонимического эффекта, когда он сам в лице местоимения «я», входит составляющей частью в имя Розалия. Таким образом, эта запись является комплиментарным обращением к хозяйке альбома. Одновременно с этим фактом адресат подчеркивает единство своего мнения с мнением других людей «Все и я), что выражается присоединительным союзом «и». В этой же записи об альбоме говорится как о журнале, что соответствовало французской традиции. Это упоминание непосредственно указывает на род занятий автора, который совместно с Н. Гумилевым возглавлял в коллегии экспертов «Всемирной литературы» отдел французской литературы.
Имя розалия фигурирует в двух записях курьера издательства «Всемирная литература» М. Зинина. Но, если в первой записи пара Роза (цветок) – Розалия традиционна, то во второй записи имя Розалия зачеркнутое в белом автографе, появляется для разграничения двух роз – цветка и Руры:
Растет в саду роза
Цветущая. И сидит в углу роза
Пахучая, т.е. <Розалия>
В таком варианте Розалия противопоставлялась розе. Чувствуя иронию, М. Зинин предпочел отказаться от последней части записи, и вместе с именем Розалии вычеркнул и свое имя, оставив автограф безымянным. Авторство Зинина было позже восстановлено текстологами.
В современных словарях личных имен Роза – Розалия даются как варианты одного имени, причем форма Роза является ведущей. Имени сопутствуют помета «русское, новое». В «переводе» роза означает «цветок». Можно предположить, что исторически в имени «Розалия» «слились» 2 имени. Возможным представляются два варианта:
Роза + Лия (др. евр.) быстрая
Роза + Лилия (рус.) по названию цветка
Наиболее вероятным является второй вариант, на что указывает помета о происхождении имени и его значение. И в том, и в другом случае прослеживаются связи с цветком. Имя Василий в переводе с древнегреческого языка означает «царственный». В полном варианте имени Роза Васильевна возникает образ царственного цветка, каким является роза, по праву занимающая место среди цветов.
В большей части альбомных надписей обыгрывается именно эта ситуация – связь розы с цветком, носящим то же самое имя. Данное положение позволяет выстроить несколько сюжетных линий, связанных со свойствами самого цветка. Самой востребованной становится линия: Роза – цветок, имеющая богатую традицию в мировой поэзии.
Особо в ряду подобных записей необходимо выделить «пушкинский» сюжет, который развивается по трем самостоятельным направлениям: первое связано с подбором различных рифмовариаций; второе «перефразирует» тексты известных стихотворений А. с. Пушкина, на что, в частности, указывают эпиграфы; третье обращает к пушкинским образам.
Вспоминая известный фрагмент из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. IV, стр. XLII), посвященный ироничному обыгрыванию традиционной точной рифмы «морозы» — «розы», «всемирные литераторы», наряду с пушкинской, создают свои пары.
У Пушкина
И вот уже трещат морозы
И серебрится средь полей…
(Читатель ждет уже рифмы про Розы;
На, вот возьми ее скорей)…
В альбоме Р. В. Руры
Совнархоза – Роза (Вс. Рождественский)
Розы – прозы (А. Ганзен)
проза – роза (Г. Иванов)
роза- Роза (М. Зинин, Б. Сильверсван)
угроза – роза (Н. Лернер)
роза – проза (Е. Замятин)
Важно, что в пушкинской цитате рифма «морозы – розы» исходит не от автора, который лишь повинуется воле читателя. Чтобы не нарушать читательского ожидания, автор вводит эту рифму. Принимая во внимание заданность записей в альбоме, можно также сделать вывод и об ожидаемости рифм. Как видно из приведенных вариантов, они не оригинальны, чаще всего встречаются рифма «проза – роза». Вспоминая мемуарные зарисовки И. Одоевцевой, К. Чуковского, А. Блока и других, данная рифма сводит образ Розы до уровня прозаического.
Записи, вписанные в альбом Руры, неординарны. Тема поэзии и прозы поднимается в них достаточно часто. При тщательном анализе записей можно сделать вывод о том, что в рамках альбома смещаются понятия поэзии и прозы: поэты предпочитают оставлять прозаические надписи под видом стихов, в то время как не-поэты создают поэтические экспромты. В этом ряду интерес представляют следующие записи. Сугубо прозаическая просьба Сергея Нельдихена оформлена в виде стихотворных строк («Роза Васильевна, / Дайте мне бесплатно / Десять папирос!»), так же, как и надпись а. Блока. Впервые тему прозы Розы поднимает на страницах альбома музыкальный критик В. Коломийцов, утверждающий неизбежность быта в творческой среде:
Стихотворства мало, нужна и проза
Во «всемирной литературе»;
И тут порой неизбежна Роза…
Эту же тему подхватывает В. Алексеев и развивает А. Блок. Запись первого сводится к следующему:
За неуменье писать стихи
Шлю Розе Васильевне свой прозаический привет. (Л. 7 об.)
Достаточно вспомнить автограф Алексеева в альбоме В. А. Сутугиной, чтобы опровергнуть это утверждение. Вере Александровне Алексеев нарисовал поздравительные иероглифы ко дню Ангела, сопроводив их русским поэтическим переводом. В альбомной надписи Руре он ограничился прозаическим приветом.
А. Блок подхватывает тему, придавая ей поэтическое оформление, однако псевдопоэтиские строки не становятся стихами, и его приветствие хозяйке альбома также носит прозаический характер:
Розе Васильевне – привет! Всегда Вас первую
Привык встречать во «Всемирной литературе». (Л. 7 об.)
Таким образом, надписи Алексеева и Блока, разместившиеся в альбоме на одной странице, образуют стихотворный диптих, объединенный общей темой.
Помещая свою надпись в виде стихов на страницах альбома, Андрей Левинсон делает к ней подзаголовок – «Стихи прозаика» (Л. 9). В целом ряде альбомных стихотворений поднимаются намеренно прозаические темы – разговоры о ценах на продукты, просьбы в получении кредита, отсрочка долга и т.п. На эту особенность указал в своем стихотворении Евгений Замятин:
После поэзии – непременно проза, —
Так уж нам видно всем суждено. (Л. 11)
Наряду в подобными поэтическими опытами в альбоме приводятся три автографа, принадлежащие сотрудникам издательства «Всемирная литература», М. Зинину и Д. Назарову, людям, далеким от литературных занятий. Первый служил в издательстве в должности курьера, второй был кассиром. Однако и тот, и другой, повинуясь общей моде на альбомные стихи, сочиняют стихотворные надписи, которые далек от совершенства, но вписываются в общий тон альбома. Все три текста объединены отсутствием точных рифм, единого ритмического рисунка стихотворения. Так, М. Зинин предпринимает две попытки (и обе неудачные) воспеть в стихах Розу:
Роза среди цветов Растет в саду роза
Благоухает. Цветущая. И сидит в углу Роза
А Розалия Всемирную литературу пахучая, т. е. <Розалия> (Л. 6 об.)
Продуктами снабжает (Л. 6 об.)
И в том и другом случае поэтический план уступает место прозаическому. В надписи, сделанной Д. Назаровым, это противопоставление становится еще более явным:
Роза Васильевна,
Вы не как роза,
Вянете не от моря,
А от жития такого
И питания плохого. (Л. 12)
В этой записи явным становится определение «Вы не как роза». В противоположность онегинской рифме ожидания читателей не оправдываются – вместо традиционной рифмы «роза – мороза» появляется ее усеченный вариант: «роза — мора». Показательно, что именно этой снижающей прозоэпической надписью заканчивает альбом Руры.
Внутри альбомного текста развивается «пушкинский» сюжет. Впервые он заявляется в надписи Всеволода Рождественского пародийно обыгрывающей вторую часть стихотворения а. с. Пушкина: «Есть роза дивная: она… «(1827). Этот же текст, но уже его полный вариант, становится источником альбомной стилизации пушкиниста Н. Лернера, на что указывает эпиграф, взятый по первой строчке, которая одновременно служит и названием пушкинского текста. Приведем полностью данные тексты с оригинальным стихотворением:
Пушкин Н. Лернер
Есть роза дивная: она Есть роза дивная. Она
Пред изумленною Киферой С довольно прозаичной целью
Цветет, румяна и пышна, Цветет у тусклого окна,
Благословенная Венерой. Маня прохожих карамелью.
Вотще Киферу и Пафос Конффетный голод пусть грозит!
Мертвит дыхание мороза, Нам лишь смешна его угроза,
Блестит между минутных роз Покуда у окна блестит
Неувядаемая роза… Неувядаемая Роза.
Вс. Рождественский
Вотще коробки папирос
Венчают цены совнархоза,
Цветет среди минутных роз
Неувядаемая Роза.22
Сопоставив три текста (Пушкин -> Рождественский -> Лернер), можно проследить и мотивировать изменения и привнесения, которые, прежде всего, касаются реальной издательской жизни. Сразу же бросается в глаза полное (Лернер) или частичное (Рождественский) совпадение начального и финального стихов в альбомных вариантах с оригиналом. И в той, и в другой надписи мифопоэтический план вытесняется прозаическим: для Рождественского высшей ценностью оказываются папиросы, для Лернера – карамель. Обе надписи, развертывающиеся в профанном бытовом пространстве, накладываются на сакральные пушкинские строки. Для всех читателей альбома эта отсылка была очевидной. Именно за счет нее в альбомные записи входил иронический подтекст.
Последующие записи также сохраняют легкий пушкинский тон. К сознательному обыгрыванию пушкинского текста прибегает Н. Гумилев:
«О дева Роза, я в оковах,»
Я двадцать тысяч задолжал,
О сладость леденцов медовых,
Продуктов, что творит Шапшал.
Но мне ничуть не страшно это,
Твой взор, как прежде, не суров.
И я курю и ем конфеты,
«И не стыжусь моих оков». (Л. 6).
Первая и последняя фразы, подчеркнутые и взятые в кавычки автором записи, прямо отсылают к одноименному пушкинскому тексту «О дева- роза, я в оковах…» (1824). Однако, в отличие от записей Рождественского и Лернера, в стихотворении Гумилева цитируются с незначительными изменениями только два начальных пушкинских стиха. Основной текст стихотворения далек от текста оригинала. В стихотворении а. с. Пушкина развивается общий мотив восточной поэзии – мотив соловья, влюбленного в розу. Чувство соловья к розе уподоблено чувству лирического героя по отношению к деве-розе.
В альбомной надписи Гумилев по-новому расставляет акценты. Уже вариант первоначального обращения к деве Розе полон иронии. Не менее ироничное звучание приобретает мотив плена. Гумилев в новом свете переосмысливает пушкинский образ любовных оков. «Оковы» Гумилева далеки от любви, что объясняется уже во второй строке надписи, — это оковы долга, который равен двадцати тысячам. Подобный мотив долгового плена будет развит и в надписи Зоргенфрея:
Сидишь, искушенная в ловле,
И нас завлекаешь в свой плен,
Оазис свободной торговли,
Гроза нормированных цен! (Л. 5)
В финальной строке четче обозначается субъективное начало. Вместо пушкинского варианта: «Но не стыжусь твоих оков», Гумилев говорит о «своих» оковах. Если для пушкинского соловья сладостны оковы розы, то для Гумилева подобную сладость представляют медовые леденцы, ради которых герой готов отказаться от свободы. Саму запись Гумилева можно рассматривать как диалог соловьиной трели, восхваляющей предмет своего поклонения. Пространство альбомной надписи раздвигает пушкинский текст, давая ему вольную интерпретацию.
К такой же форме прибегает и Борис Сильверсван, в автографе которого пушкинские строки служат прологом к развитию собственных мыслей. Сильверсван цитирует четыре первые стиха из раннего стихотворения А. С. Пушкина Лицейского периода «Роза» (1815): «Где наша роза / Друзья мои? / Увяла роза, / Дитя зари». (Л. 8 об.). Эта цитата сопровождается следующими авторскими размышлениями:
Но наша23 Роза (Васильевна) никогда пусть не увянет,
И никогда не иссякнет у нее источник нектара (чая)
И не источатся запасы амброзии (пирожков и конфет).
Подчеркивая местоимение «наша» Сильверсван тем самым четко проводит временную границу между пушкинской эпохой и современностью. Тексты Пушкина и Сильверсвана отделяет друг от друга чуть больше века. Надписи, сделанные в скобках, и введенные в основной текст надписи, позволяют наглядно разграничить высокий (поэтический) и сниженный (прозаический) план. Нектар и амброзия указывают на небожителей, так как и то, и другое являются напитком и пищей богов. Так в альбомный сюжет вводится античная тема. Однако в голодные 1920-е годы нектаром и амброзией казались «всемирным литераторам» обычные продукты – чай, пирожные и конфеты. О том, насколько дороги и дефицитны были эти и подобные им товары, свидетельствует целый ряд альбомных записей. Например, в надписи были эти и подобные товары, свидетельствует целый ряд альбомных записей. Например, в надписи Замятина упоминается фунт китайского чая ценой в тридцать тысяч. Упоминаемые в записи Сильверсвана нектар и амброзия, находящиеся во владении Розы Васильевны, приводят к напрашивающемуся сравнению ее с древнегреческой богиней Гебой, разливающей богам нектар на Олимпе. Подобное сравнение с богиней юности травестирует подлинный образ Розы Васильевны.
Особое место в альбомных записях отводится возвеличиванию внешних и внутренних качеств Р. В. Руры. Так, в записи Б. Рапгофа Роза Васильевна характеризуется как «необходимейший сотрудник переводчиков Всемирной литературы» (Л. 3). Отсутствие в автографе кавычек, указывающих на название издательства, придает всей фразе двусмысленный оттенок: Роза Васильевна зачислена в штат переводчиков, так как переводит продукты в денежный эквивалент. Главная ее задача – поддержание телесной и, как следствие, душевной бодрости у сотрудников издательства.
На фоне записи Рапгофа запись С. Штрайха (Л. 3) звучит неоригинально: «Выше всякого уважения достоин человек трудящийся, и не только в Советской Республике». В альбоме В. А. Сутугиной надпись, выполненная Штрайхом и сделанная полугодом ранее, гласила следующее: «Выше всего в мире – труд». (Л. 30 об.). В сопоставлении друг с другом эти надписи развивают общую мысль о роли труда в советском обществе. Однако надпись в альбом Руры иронично обыгрывает первый по времени написания автограф. Смысл заменяет фрагмент « и не только», который может относиться как к первой, так и ко второй частям фразы.
Б. Эйхенбаум наделяет Руру эпитетом «милая», отмечая ее «доброе сердце» (Л. 4 об.). Примечательно то, что запись сделана не от лица Эйхенбаума, а от лица его маленькой дочери: «У меня есть дочка Олечка, которая знает, что «Всемирная литература» — это милая роза Васильевна, у которой – не только пряники и конфеты, но и – доброе сердце». Детская точка зрения ценна своей простотой и безыскусностью. О доброте Розы («добрая Абора сотрудников Всемир<ной> литер<атуры>») сделана запись неустановленного лица (Л. 6 об.) намек на ее доброту содержится в автографах Н. Гумилева («Твой взор, как прежде, не суров»), В. Коломийцева («Симпатичная по натуре»). Интересным кажется тот факт, что ни в одной из альбомных записей нет ни единого намека на портрет Руры. Везде встречаются лишь обобщенные образные определения: «дивная», «неувядаемая» (А. Лернер, Вс. Рождественский).
Излюбленным мотивом становятся метафорическое сравнение Розы с цветком. Оно, пока еще в неявной форме, вводится уже в надписи Евгения Браудо на втором листе альбома:
Побывать во «Всемирной литературе» и не видать
Розы Васильевны – это то же, что быть в Риме
И не видать … папы.
Первоначальный смысл фразы подтверждает первичное восприятие розы Васильевны как главной достопримечательности издательства, хотя сравнение с папой как с достопримечательностью Рима может показаться комичным, если не знать, что Золотая (как вариант, царская) Роза служит эмблемой Римского Папы.
Варьируемый мотив девы- Розы по-новому переосмысливается в рамках альбома Руры, поскольку образ розы без шипов, девы- розы связан с Девой Марией, чьим атрибутом является роза, и которую именуют Розой Небес или безгрешной Розой без шипов. В альбоме Руры этот сакральный сюжет не нашел развития в силу понятных причин. Наиболее развит мотив женщины-цветка, определившийся в «Мадригале» Георгия Иванова:
Печален мир – все суета и проза.
Лишь женщины нас тешат за цветы.
Но двух чудес соединенье ты –
Ты женщина! Ты роза! (Л. 8).
Непременными особенностями, связанными с цветком, оказываются фазы цветения и аромат, обыгрываемые на страницах альбома. Так, в импровизации К. Чуковского роза названа царицей благовоний (Л. 3 об.). А в надписи м. Зинина ее сопровождает эпитет «пахучая» (Л. 6 об.). однако и в том, и в другом случае сладостный аромат исходит не от самой Розы, как следовало бы ожидать, а от ее товаров. В записях отводится внимание и периоду цветения розы. Либо называются стадии цветения: цветы и бутоны в записях Ф. сологуба; раскрывающийся цветок фигурирует в автографах Вс. Рождественского, К. Чуковского, Г. Лозинского, М. Зинина, Н. Лернера, причем у Лернера и рождественского речь идет о вечно цветущей (неувядаемой) розе; образ увянувшей (умершей) розы появляется у Сильверсвана в цитате из пушкинского текста, однако во второй части записи образ умершего цветка сменяется вечным цветением.
И все же роза-цветок как явствует из записей, проигрывает в сравнении розе-женщине. Наиболее наглядно это показано в записи Николая Оцупа: «Разве чайная роза сравнится с Вами, Роза Васильевна! Ведь у нее нет не только пирожков с капустой, у нее даже нет чая в розовой обертке «Попов и К0» (Л. 2).
Однако это преимущество мнимое. Оцуп прибегает к двойному словесному плану: чайная роза – роза, у которой есть чай, т. е. Роза Васильевна. В других записях так же фигурирует чай как непременный атрибут владелицы.
На тесное соседство в альбоме Руры двух планов указывает использование различных групп лексики в одной однородном ряду: Так, в записи Чуковского сотрудники «Всемирной литературы» сравниваются с летящими на запах благоухающей розы мотыльками, однако это возвышенно-поэтическое сравнение разрушается последующими уточнениями:
Мы все к тебе толпою
Летим, как мотыльки,
Открывши пред тобою
Сердца и кошельки.
«Сердца» «кошельки» — слова разных смысловых рядов. За счет расположения их в одном стихе создается комический эффект. Многие из пишущих в альбом отмечают «бескорыстность» Руры, не боящийся дать в долг товар. Об этом упоминают Ф. Сологуб, Зоргенфрей, Н. Гумилев, В. Коломийцов, Е. Замятин, а С. Нельдихен в альбомной записи прямо обращается к Руре, просит у нее не просто в долг, а бесплатно «десяток папирос». Однако этот ряд свидетельств, повествующих о благородстве Розы Васильевны, разрушается благодаря комментарию М. Зинина, сводящемуся к тому, что Роза Васильевна снабжает издательство продуктами «по своей цене» (Л. 6 об.), вследствие чего всегда находится в выгоде. («Виды на будущность хрупки, — / Все же она добывает / Сахарцу, маслица, крупки»). Во многом записи, сделанные в альбоме Руры, являются частичной оплатой долга. «А мы, продовольствия ради, / Слагаем тебе мадригал», — пишет Зоргенфрей. (Л. 5). Он же приводит очень емкие сравнения:
Ты нам и Ландрин и Конради,
Ты нам и Лаферм и Шапшал! (Л. 5)
Николай Оцуп оставил любопытные воспоминания, объясняющие природу сладостного плена Розы: «Она и ее лоток были для нас миражом свободы, кутежей, самых смелых дерзаний»24 Перечислений ряд владельцев шоколадной и табачной фабрик поднимает статус Розы Васильевны.
В записи Дм. Крюкова возникает сравнение розы с оранжерейным растением: в ноябрьскую Слякоть мысли о розе, растущей в теплице, согревают. В ходе логических умозаключений выстраивается следующий однородный ряд: Роза -> теплица -> тепло.
В записи Юлии Данзас в одной однородном ряду стоят два взаимоисключающих определения Розы Васильевны – демон –искуситель и благоародный гений «всех членов «всемирно-литературной семьи» (Л. 9 об.). Подобные образы обращают к «Письму Татьяны» из романа а. с. Пушкина «Евгений Онегин». Пушкинская героиня, пытаясь понять Евгения, задается вопросом: «кто ты, мой ангел ли хранитель, / Или коварный искуситель: / Мои сомненья разреши». У Данзас также возникают сходные определения, однако между ними не стоит вопрос выбору, поскольку две ипостаси образа Розы Васильевны слиты нераздельно и связаны с отношениями к конкретному человеку, достаточно вспомнить особенности ее общения с М. Кузминым и О. Мандельштамом. Шутливое стихотворение Евгения Замятина о покупке у розы Васильевны чаю за тридцать тысяч сопровождается извинительной припиской: «Разумеется, прейскурант этот – фикция: тридцать тысяч – злая клевета на Розу Васильевну …» (Л. 11). В противном случае Замятин мог бы лишиться расположения Р. Руры.
Предпоследняя запись принадлежит издателю З. Гржебину и представляет собой вариант долгового обязательства: «С удовольствием издам этот альбом, даже гонорар заплачу розе Васильевне, но только пусть сейчас не требует денег» (Л. 12). Однако этот план не был осуществлен.
Заключение
Форма альбома оказалась практически неизменной на протяжении двухвековой истории. Альбомы, созданные в рамах издательства «Всемирная литература», помогают проследить общественную атмосферу времени.
Собранные в единый альбом тексты не отличаются стилистической однородностью. П отношению к целому единичные записи выполняют утилитарную функцию, прежде всего, они соответствуют мировоззрению владелицы. В альбомных текстах можно выделить разные виды формульности. Общие темы и мотивы способствуют организации альбомов в единое целое. В альбомах В. А. Сутугиной и Р. В. Руры предстают два контрастных мира: мир творческий (I альбом) и мир бытовой (II альбом). Каждый альбом воссоздает конкретные реалии данных миров. К основным мотивно-тематическим единицам можно отнести следующие: восхищение красотой и умом владелицы альбома; пожелание счастья; клятвы в вечной дружбе; типичные шутки; насмешки над альбомными стихами. Традиционным было и предупреждение об отсутствии дара писать стихи (в соответствии с формулой «я не поэт»).
Разговорная интонация, характерная для данных альбомов, погружает читателя во внутреннюю атмосферу взаимоотношений между сотрудниками издательства. Пишущий читал предыдущие надписи, сделанные в альбоме, и реагировал на них, в результате чего каждая запись становилась репликой единого альбомного диалога.
Альбомы В. А. Сутугиной и Р. В. Руры сохранили типовые черты литературно-бытового альбома XIX века. Стихотворения насыщены большим количеством литературных реминисценций, на примере многих записей можно проследить влияние пушкинской традиции. К «этикетной» части альбома относятся комплиментарные стихотворения.
Так, например, по записям, сделанным в альбоме в. А. Сутугиной, можно судить о роде занятий пишущего. На такого рода альбомных записях лежит характер индивидуальности их авторов. Многие записи носят обобщенный, афористический, смысл, другие представляют собой квинтэссенцию восточной и западной мудрости, дарующей утешение и поддержку. «Восточная» и «западная» строфы создают особый поэтический контекст.
В альбоме Р. Руры выстраивается единый сюжет, воплощенный в двух линиях развития – профессиональная деятельность владелицы альбома, вторая линия – именная (Роза – цветок розы).
Но, несмотря на то, что альбом отражает общекультурную ситуацию конкретного времени, он остается личным дневником, хранящим воспоминания о прошлых днях. Именно поэтому многие альбомные записи имеют различные толкования в силу того, что для владелицы они несли дополнительный (часто тайный) смысл, непонятный для непосвященных.
______________________________________
Примечания
1.Лебедева О. Б., Янушкевич А. С. Комментарий к стихотворению в. А. Жуковского <Альбом> // Жуковский В. А. Полн. Собр. Соч. и писем: В 20 т. М., 2000 Т.2. С. 777
2.Из литературного быта Петрограда начала 1920-х годов/ Публ. Т. А. Кукушкина. Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 342.
3.Зелинский, К. Л. Горький и «Всемирная литература» // На рубеже двух эпох: Литературные встречи. 1917 – 1920. М., 1962. С. 263.
4.Там же.
5.Ежегодник Рукописного Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 348.
6.Цитируется по изданию: Ежегодник Рукописного Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 348-349
7.Интересным оказывается сопоставление записей, сделанных в альбоме Софии Дмитриевны Пономаревой в день ангела, с записями в альбоме в. А. Сутугиной. И в том, и в другом альбоме поздравительные записи представляют собой комплиментарные стихотворения, в которых содержатся пожелания здоровья, долгих лет жизни, счастья, исполнения желаний. Именинница сравнивается по своей красоте с божеством.
8.Здесь и далее текст альбомных записей цитируется по изданию: Альбом в. А. Сутугиной // Ежегодник Рукописного Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. В скобках после цитаты проставляется номер листа в альбоме, на котором сделана надпись.
9.Эта же рифма присутствует и в стихотворении Ф. Сологуба.
10.Все выделения в тексте стихотворения сделаны нами.
11.Данные выделения сделаны в альбоме в. А. Сутугиной самим автором, Б. Лившицем.
12.Все выделения в цитате сделаны нами.
13.Ссылки на тексте альбомных записей, за исключением особо оговоренных случаев, делаются по изданию: ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 341-403.
14. Рождественский, Вс. А. Страницы жизни: Из литературных воспоминаний. М.-Л, 1962. С. 227
15. Чуковский, К. И. Запись от 19 ноября 1919 года // Чуковский, К. И. Дневник: 1901-1929. М., 1997. С. 126.
16. Иванов, Г. Китайские тени // Иванов, Г. Собр. Соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 230.
17. Там же.
18. Одоевцева, И.В. На берегах Невы: Литературные мемуары. М, 1988.С. 135.
19. Одоевцева, И. В. На берегах Невы: Литературные мемуары. М, 1988. С. 135-135.
20. Одоевцева, И.В. Наберегах Невы: Литературные мемуары. М, 1988. С. 134.
21. Такие сведения дает М. Корш в «Кратком словаре мифологии и древностей» (СПб., 1894): воды Стикса, «по убеждению древних, отличались свойством разъедать все, кроме лошадиных копыт» (С. 166).
22. Все выделения в тексте сделаны нами.
23. Выделено Б. Сильверсваном.
24. Оцуп, Н. Современники. Париж, 1961. С. 46.
Список литературы
I. Источники
1. Альбом Р. В. Руры // ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 391-402.
2. Баратынский, Е.А. Стихотворения. М., 1976.
3. Брюсов, В.Я. собрание сочинений: В 7 т. М., 1973.
4. В царстве муз. М., 1987.
5. Волошин, М. А. Стихотворения, статьи, воспоминания современников. М., 1991.
6. Вяземский, П. а. Лирика. М., 1979.
7. Гиппиус, З. Н. Стихотворения. СПб., 1999.
8. Горький, М. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 15, 17.
9. Гумилев, Н.С. Стихи: Письма о русской поэзии. М., 1990
10. Дельвиг, А. А. стихотворения. М., 1976.
11. Жуковский, В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20т. Т. 1, 2. М., 2000.
12. Замятин, Е. М. Избранное. М., 1989.
13. Золотой век. М., 1998.
14. Иванов, Г. собрание сочинений: В 3т. М., 1994. Т. 3.
15. Из альбома В. А. Сутугиной // ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год СПб., 2002. С. 361-390.
16. Лермонтов М.Ю. Сочинения. М., 1988.
17. Мандельштам, О. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995.
18. Неизданный Федор Сологуб. М., 1997.
19.Одоевцева, И. Г. На берегах Невы. М., 1988.
20.Оцуп, Н.А. «Всемирная литература» и Роза // Оцуп, Н. А. Современники. Париж, 1961. С. 44-48.
21. Полонский, Я. П. Стихотворения. М., 1986.
22. Пушкин, А. С. Евгений Онегин. М., 1965.
23. Пушкин, А. С. Собр. Соч. : В 10 т. Тт. 1-3. М., 1961-1963
24. Рождественский, Вс. А. Страницы жизни: из литературных воспоминаний. М. – Л., 1962.
25. Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина. СПб., 1997. Вып. 3. Ч. 2.
26. Русские поэты XIX века. М., 1989.
27. Тукай, Г. Стихотворения и поэмы. М. – Л., 1963.
28. Ходасевич, В. Собрание стихов. М., 1992.
29. Цветаева, М. И. собрание сочинений: В 7 т. Т. 2. Стихотворения. М., 1994-1995.
30.Чуковский, К. И. Дневник: 1901 – 1929. М, 1997.
31. Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1979.
32. Шилейко, В. К. Через время. Стихи, переводы, мистерия. М., 1994.
33. Языков, Н. М. Стихотворения. М., 1978.
34. <Яковлев, П.Л.> Записки москвича. Кн. 1. М., 1998.
II. Научно-исследовательская литература
35. Агурский, М.М. Горький и Ю. Н. Данзас // Минувшее. М., 1991. [Вып.5]. С. 359-369.
36. Алексеев, В. М. Наука о Востоке. М., 1982.
37. Алексеев, М.П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987.
38. Алексеев, М. П. Пушкин сравнительно-исторические исследования. Л, 1984.
39. Алексеев, М. П. Из истории русских рукописных собраний // Неизданные письма иностранных писателей XVIII – XIX веков из ленинградских рукописных собраний. М. – Л., 1960. С. 8-16.
40. Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2т. М., 1980. Т. 2.
41. Бень, Е. Маяковский (по альбомам А. Е. Крученых) // Литературная учеба. 1987. № 5.
42. Баньковская, М. В. Малак – литературные вечера востоковедов, 1920-е годы // традиционная культура Китая. М., 1983. С. 119 – 126.
43. Баньковская, М. В. «Малая академия» в Азиатском музее // Народы азии и Африки. 1985. №3. С. 139-152.
44.Берковский, Н. <Вступ. Ст.> // Кржевский, Б. А. Статьи о зарубежной литературе. М. – Л., 1960. С.. 3-20.
45.Бодрова, А. А. Деятельность Восточной коллегии «Всемирной литературы» под руководством М. Горького // М. Горький и литературы зарубежного востока. М., 1968. Сб. 1. С. 281-292.
46.Борисов, С. Латентные йеномены культуры (опыт социологического исследования личных документов девушек): Автореф. Дисс. … канд. Филол. Наук. Екатеринбург, 1993.
47.Борисов, С. Эволюция жанров девичьего альбома в 1920-1990-е годы // Шадринский альманах. Вып. I (1997). Шадринск, 1997. С. 87-110.
48.Вацуро, В. Э. Из альбомной лирики и литературной полемики (1790-1830-е годы) //Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 61-78.
49.Вацуро, В. Э. Лирика Пушкинской поры. Спб., 1994.
50.Вацуро, В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского Дома (1750-1840-е) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979 С. 3-56.
51.Вацуро, В. Э. Пушкинская пора. Спб., 2000.
52.Вацуро, В. Э. С. Д. П. («Сословия друзей просвещения»). Из истории литературного быта Пушкинской поры. М., 1989.
53.Вацуро, В. Э. Северные цветы. М., 1978.
54.Вацуро, В. Э. Гиллельсон, М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986.
55.Голубева, О. Д. Горький-издатель. М., 1968.
56.Гржебина, Е. З. Гржебин-издатель / Публ. И коммент. Т. Ковалевой // Опыты. 1994. №1. С. 177-206.
57.Девичий альбом XX века / Пред. и публ. В. В. Головина и В. Ф. Лурье // Русский школьный фольклор. М., 1998. С. 169-363.
58.Декреты Советской власти. М., 1957. Т. I.
59.Дмитриенко, А. Л. О воспоминаниях Сергея Нельдихена // De visu. 1994. №3/4. С. 69-72.
60.Долинина, А. А. Невольник долга. Спб., 1994.
61.Зелинский, К. В изменяющемся мире: портреты, очерки, эссе. М., 1969.
62.Зелинский, К. Л. Горький и «Всемирная литература» // На рубеже двух эпох: Литературные встречи. 1917-1920. М., 1962. С. 256-267.
63.Иванов, Вяч. Вс. <Вступ. Ст.> // Всходы вечности: Ассиро-вавилонская поэзия в переводах В. К. Шилейко. М, 1987. С. 129-158.
64.Иезуитова, Р.В. «Альбом Онегина» (Материалы к творческой истории) // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. Л., 1989. С. 19-32.
65.Из дневников Е. П. Казанович / Публ. В. Н. Сажина // Пушкинский Дом: Статьи. Документы. Библиография. Л., 1982. С. 170-172.
66.Из истории русской литературы. Т. IV. (XVIII – начало XIX века). М., 1996.
67.Из литературного быта Петрограда начала 1920-х годов / Публ. Т. А. Кукушкиной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. Спб., 2002. С. 341-360.
68.Казаков, А. «Петрокомунна» Максима Горького // В мире книг. 1987. №8. С. 6-8.
69.Капица, Ф. С., Колядич, Т. М. Русский детский фольклор. М., 2002.
70.Корнилова, А. В. Картинные книги. Л., 1982.
71.«Краткая история «Всемирной литературы» / Публ. В. Троицкого // Память М.-Париж, 1981-1982. №5. С. 287-314.
72.Кремлев, В. А. <Вступ. Ст.> // Коломийцов, В. Статьи и письма. Л., 1971. С. 3-8.
73.Левин, Ю. М. Поэты о дровах … // Прометей. М., 1967 Т. 4. С. 414-421.
74.Левкович, Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988.
75.Лотман,Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начала XIX века). СПб., 1994.
76.Лотман,Ю. М. Великосветские обеды. Спб., 1996.
77.Лотман,Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений онегин». Л., 1980.
78.Лотман,Ю. М. Русская литература и культура. Т. I. М., 2000.
79.Лотман,Ю. М. Пушкин. Спб., 1997.
80.Максим Горький в воспоминаниях современников: Сб. в 2 тт. М., 1981.
81.Медведева, И. Павел Лукьянович Яковлев и его альбом // Звенья. II М.-Л., 1936. С. 79-94.
82.Мец, А. Г., Кравцова, И. Г. <Вступ. Ст.> // Шилейко, В. Пометки на полях. Стихи. Спб., 1999. С. 3-47.
83.Михаил Лозинский / Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры: Биографический словарь, Спб., 1995. Т. I. С. 327-329.
84.Михайловский, Б. В. Драматургий М. Горького эпохи первой русской революции. М., 1951.
85.Михайловский, Б. В. Избранные статьи о литературе и искусстве. М., 1969.
86.Мусатов, В. В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. М., 1992.
87.Мясников, А. С. А. М. Горький – организатор издательства «Всемирная литература» (1918-1921 гг.) // Исторический архив. 1958. №2. С. 67-95.
88.Набоков, В. В. Комментарии к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Спб., 1998.
89.Наумов, А. «Несчастливый домик» (литературный альбом А. И. Ходасевич) // Литературная учеба. 1988. №4.
90.Неизвестные страницы русской поэзии XX века: Сергей Нельдихен. Мария Шкапская / Сост. и вступ. Заметка в. Ю. Бобрецова // Русская литература. 1991. №3. С. 209-210.
91.Парнис, А. «Зачем так опрометчиво я взял твою тетрадь…»: Блок, Маяковский, Ходасевич и другие в парижском альбоме // Опыты. Спб., — Париж, 1994 №1. С. 150-176.
92.Петина, Л. И. Художественная природа литературного альбома первой половины XIX века: Автореф. дис. … канд. филол. Наук. Тарту, 1988.
93.Плавскин, З. И. А. А. Смирнов, ученый и литератор // Вега Г. де. Новеллы. М., 1969. С. 283-293.
94.Распятые: Писатели – жертвы политических репрессий / Автор – составитель З. Дичаров. Спб., 1998. Вып. 3.
95. Сегал, Д. Сумерки свободы: О некоторых темах русской ежедневной печати 1917-1918 гг. // Минувшее: Исторический альманах. М., 1991. Вып. 3. С. 131-196.
96.Семейный альбом Аксаковых // Литературная учеба. М., 1988. №1
97.Смирнова, А. А. Русская литература конца XIX –XX веков. М., 1993.
98.Соколова, Т. Альбом Елагиной // Литературная учеба. М., 1989. №4.
99.Стихотворения Е. И. Васильевой, посвященные Ю. К. Щуцкому / Публ. Н. Ю. Грякаловой // Русская литература. 1988. №4. С. 200-205.
100.Тименчик, Р. Неизвестные экспромты Николая Гумилева // Даугава. 1987. №6.
101.Тименчик, Р. Д., Лавров, А. В. Материалы А. А. Ахматовой в Рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976. С. 72-75.
102.Фатхуллина, Р. Материалы к биографии Давида Выгодского // Лица М.- Спб., 1992 [Вып.]1. С. 78-110.
103.Хлебников, Л. М. из истории Горьковских издательств: «Всемирная литература» и «Издательство З. И. Гржебина» // Литературное наследство. М., 1971. Т. 80. С. 668-703.
104.Чертков, Л. Н. В. А. Зоргенфрей – спутник Блока // Руссская филология. Тарту, 1967. [Вып.]2. С. 113-139.
105.Ширмаков, П. П. К истории литературно-художественных объединений первых лет Советской власти // Вопросы советской литературы. Л., 1958. Вып. 7. С. 454-475.
106.Школьный быт и фольклор. Ч. 2. Девичья литература. Таллинн, 1992.
107.Шомракова, И. А. Книгоиздательство «Всемирная литература» (1918-1924) // Книга: Исследования и материалы. М., 1967. Сб. 14. С. 175-193.
III. Справочная литература
108.Тресиддер Д. словарь символов. М., 1999.
109.Эмблемы и символы: Избранные эмблемы и символы, изданные статским Советником Нестером Максимовичем-Амбодиком (Спб., 1811). Репринт. М., 1995.
Автор: Татьяна Маркинова
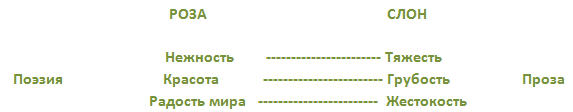
Comments are Disabled